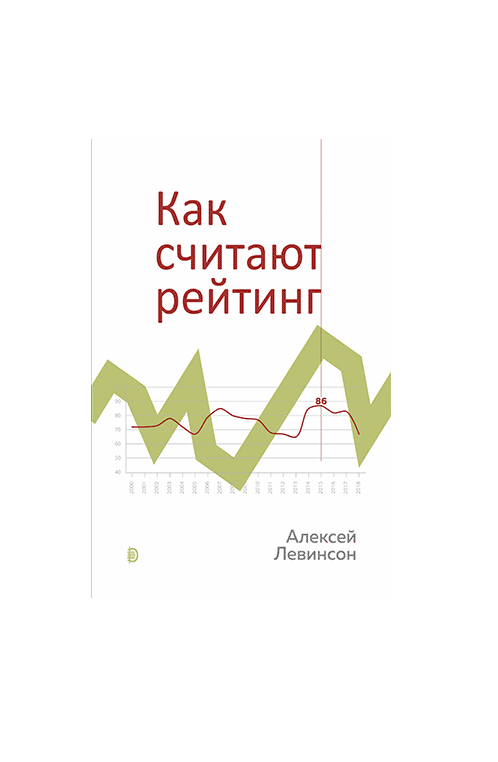«В Советском Союзе за одно слово „социология” книга отправлялась в спецхран»
Фрагмент книги Алексея Левинсона «Как считают рейтинг»
Алексей Георгиевич Левинсон решил посвятить себя социологии в те годы, когда само это слово только-только перестало быть под запретом. Сегодня Левинсон — руководитель одного из отделов «Левада-Центра». В издательстве «Дискурс» выходит его книга «Как считают рейтинг». В совместной с «Лабиринтом» рубрике «Горький» публикует ее фрагмент — интервью, которое социолог дал Надежде Белохвостик.
— Алексей Георгиевич, вы связаны с социологией более полувека. Но с социологическим образованием в Советском Союзе всегда было непросто. Как вы стали социологом?
— С социологическим образованием в СССР как раз все было просто: достаточно долго его вообще не было. Уже существовал институт, который должен был заниматься социологией, выпускались книги, была даже специальность «заводской социолог», и при этом специализированного факультета не было — только кафедра конкретных социальных исследований и методов на философском факультете МГУ. Что-то, кажется, было еще в Новосибирске… Но в целом это показывает, сколь трудны были судьбы социологии в советском и даже постсоветском обществе. В принципе, у этих трудностей есть вполне основательные социальные причины, часть из них описывается в книге. А еще часть можно назвать в этом интервью.
«Собирался заниматься историей Востока»
— Я учился в Институте восточных языков при МГУ. Поступил туда в 1961 году, потому что собирался идти по той же стезе, что и мой отец, который был историком-востоковедом. И я думал, что буду заниматься историей Востока.
— Какой язык вы учили?
— Индонезийский, и планировал заниматься историей Индонезии. Но уже в годы учебы — возможно, это было связано с тем, какие наступали времена (а это была как раз эпоха оттепели) — меня очень заинтересовали социальные проблемы и той страны, которую я изучал, и своей родной страны. В то время пусть не очень многое решалось, но очень многие вопросы ставились. Эпоха оттепели — это эпоха значительного освобождения мысли, и закономерно, что люди о многом захотели знать. В частности, о своем обществе. В более полной форме это знание стало удовлетворяться лишь через целую эпоху — в период гласности. Но тут была похожая обстановка.
— И похожий откат?
— Да. Но еще до того я познакомился с несколькими молодыми людьми, которые стали заниматься социологией. Это была не наука, а скорее сфера интересов. Они начали читать соответствующие книжки, которые, кстати, только-только вышли из так называемого спецхрана и появились в библиотеках в общем доступе. До этого, если в названии книги было слово «социология», она автоматически попадала на особое хранение и рядовой читатель ее прочесть никогда не мог.
Я стал искать пути в эту новую науку. Мой отец как раз не только не настаивал, чтобы я шел его тропой, — напротив, он меня поощрял к тому, чтобы я искал другую, более современную дорогу. И это он порекомендовал мне статью некоего Юрия Левады про сознание и управление в социальных процессах. Именно там я прочел о том, как общество само регулирует себя с помощью определенных систем. Это был социологический взгляд на общество, изложенный тогда с оглядкой на кибернетические модели, которые входили в оборот и служили интеллектуальным инструментом, с помощью которого можно было найти новый подход к пониманию процессов, происходящих в обществе.
В 1966 году мне по учебной программе нашего факультета надо было где-то проходить практику. Вуз языковой, поэтому предполагалось, что я должен где-то пристроиться в качестве переводчика. Но эта деятельность меня уже не привлекала.
«Левада был самым молодым доктором философских наук в СССР»
— Я отправился в Институт философии Академии наук СССР, где только-только был создан отдел конкретных социологических исследований. Я знал, что сектором теории и методологии этих исследований наряду с другим человеком заведовал Юрий Левада, автор той самой статьи. Он был самым молодым на тот момент в Советском Союзе доктором философских наук — защитился в 35 лет. Его диссертация была уже опубликована в виде книги «Социальная природа религии». Я и ее успел просмотреть. Левада предлагал подход к изучению религии, который отчасти наметил Маркс, но в основном развивал Эмиль Дюркгейм — один из отцов социологии. Для меня это было необычайно интересно. И в статье Левады, и в его книге рассматривалась центральная для социологии идея культуры. Культуры не в том смысле, что нехорошо сморкаться в скатерть и плевать на пол, а культуры как социального механизма, который управляет действиями людей.
Могу сказать, что именно с этого момента началась моя судьба. Потому что с 1966 года и по 2006-й, когда Левада умер, то есть сорок лет, я состоял с ним в практически непрерывном контакте.
…Левада был личностью выдающегося масштаба. Я писал об этом и до его смерти, и после. Он сыграл огромную роль в становлении отечественной социологии, причем совсем не теми способами, которыми это делается обычно — не благодаря тому, что был каким-то начальником или выпустил какие-то руководства, инструкции, учебники. Во всем — и в мелочах, и в делах предельно больших — ему была дана эта способность от природы ли, или от самовоспитания, или от истории, которую он прожил. Статью о нем и его роли в нашей социологии я назвал словами из пословицы «Не стоит село без праведника». Он был праведником. Не в том смысле, что не пил, не курил, не грешил. Нет. Он задавал некую норму понимания действительности, которая, как выясняется, становилась доступной другим, только когда они ее видели в его поведении. Так все становится вдруг видным, когда включается свет.
«Люди должны знать, почему стоит доверять результатам массовых опросов»
— В этой книге вы рассказываете о разных методах изучения общественного мнения.
— Есть ряд методов, которые дают результат, выраженный в виде цифр, поэтому они зовутся количественными. Основаны эти методы на процедуре, грубо говоря, задавания одного и того же вопроса в одинаковой форме большому числу людей. И из анализа того, как распределяются ответы на этот вопрос, делается заключение о том, каково общественное мнение на этот счет. В другой процедуре тот же вопрос или вопрос на ту же тему предлагают к обсуждению некоторому небольшому числу людей — это может быть и индивидуальное интервью, и групповое обсуждение на фокус-группе. Общественное мнение выясняется в ходе этого обсуждения, во время которого принимаются определенные меры, чтобы из коммуникации людей можно было извлечь общее не только для их сознания, но и для сознания многих других. Как из мнения 1 600 человек, полученного во время массового опроса, делается вывод о мнении миллионов, так и во время дискуссии восьми человек с помощью специальных приемов и средств извлекается некое содержание, про которое можно думать, что оно такое же, как у миллионов других. Результат тут не численный, но он гораздо глубже. К примеру, мы не только узнаём, что думают люди, но и почему они отдают предпочтение тому или иному человеку, явлению или товару. Этот метод универсален и для политических исследований, и для маркетинговых. Его зовут качественным, или глубинным.
Учиться этому методу меня посылали в Великобританию, а потом сюда приезжали европейские специалисты, владеющие этим ремеслом. С тех пор и во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ), а позднее и в «Левада-Центре» я занимался в основном именно качественными методами. На мой взгляд, это фантастически интересно. Тут можно погрузиться в такие глубины человеческого, что просто замирает сердце.
— Но в обывательском представлении опрос общественного мнения выглядит очень просто: вышли на улицу, опросили 100, 200, 500 человек, что-то посчитали и выдали результат.
— Конечно, так нельзя получить надежный результат. Работая над этой книгой, я ставил перед собой вот какую задачу — дать читателям представление о том, с помощью каких средств люди, называющие себя социологами, или исследователями общественного мнения, узнают то, что другим неизвестно. А именно: что думают, чего хотят, на что надеются или чего боятся все те, кто проживает вместе с нами в одном городе, в одной стране. При этом социологи узнают точное соотношение мнений, какие люди что думают в зависимости от их возраста, или дохода, или других параметров. Как социологи это делают? Есть приемы и способы, выработанные и проверенные многократной и многолетней практикой многих тысяч исследователей. Мне хочется рассказать о том, на чем построены эти приемы и способы, чтобы люди, которые об этом узнают, понимали, чему здесь можно доверять совершенно спокойно, а где возможности анализа, предсказания заканчиваются; чтобы не было иллюзий, но и чтобы никто не обвинял специалистов и саму деятельность в том, в чем она не виновата. И иллюзии, и обвинения возникают очень легко, потому что эта деятельность затрагивает нечто важное для всех остальных — нечто связанное с судьбами людей, страны. Поэтому мы все время в фокусе внимания, в фокусе дискуссии, от нас очень многого ждут, иногда необоснованно приписывают нам возможности или, наоборот, ставят под сомнение то, что мы делаем. Здесь затрагиваются вопросы профессиональной чести, человеческой честности и добросовестности порой в большей степени, чем это касается людей других профессий. Вот почему мне показалось важным рассказать об этом по возможности ясно.