Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Леонид Большухин, Мария Александрова. Лирический герой Маяковского: феномен «незавершенности». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. Содержание
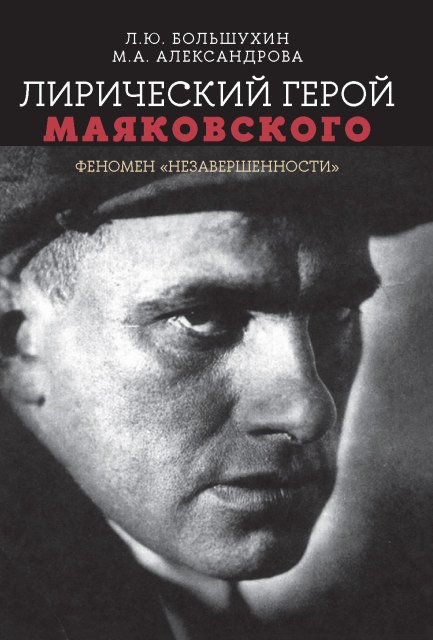 «Разговор с товарищем Лениным»: самоотчет-исповедь лирического героя
«Разговор с товарищем Лениным»: самоотчет-исповедь лирического героя
Образ Ленина всегда создается Маяковским в духе высокого гротеска, конфликтующего с гладкописью советской ленинианы (закономерно, что в пору советской канонизации эта сторона его поэтики станет необсуждаемой). Но сопротивление фальшивому стилю поклонения — «чтоб конфетной / не был / красотой оболган» — лишь одна из решаемых Маяковским задач. Именно резкое смещение пропорций, пересоздающее облик, служит осмыслению эпохального статуса Ленина. Характерный для Маяковского принцип реализации метафоры опирается на фразеологию официальную («Ленин — мозг революционной партии») и простонародную («Ленин — голова»), которую поэт дерзновенно соединяет с реальным обликом вождя, столь далеким от благообразия: «скуластый / и лысый / один человек», как сказано в поэме «Владимир Ильич Ленин» о герое, еще не преображенном своей исторической ролью. Смелость Маяковского заключалась и в том, что он переступил через собственный опыт создания гротескного образа Повелителя Всего в поэме «Человек»:
Там, возносясь над головами, Он.
Череп блестит,
хоть надень его на́ ноги,
безволосый,
весь рассиялся в лоске.
Общий принцип изображения заново найден в стихотворении «Владимир Ильич!» (1920):
Металось
во все стороны
мира безголовое тело.
<...>
Когда
над миром вырос
Ленин
огромной головой.
В поэме «Владимир Ильич Ленин» (1924) этот изобразительный принцип закрепляется; специфическая деформация житейского облика возводит «одного человека» в ранг живого олицетворения мыслительной силы, двигающей историю:
И оттуда,
на дни
оглядываясь эти,
голову
Ленина
взвидишь сперва.
В «Разговоре с товарищем Лениным» та же выразительная диспропорция облика мотивирована иначе — характером присутствия адресата поэтической речи в пространстве «я»:
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.
Словесный образ совпадает с реальной фотографией Ленина в комнате поэта на Лубянке; Ленин запечатлен на трибуне во время многолюдного митинга, но фотография не панорамная, она выделяет, берет «в фокус» именно голову:
Рот открыт
в напряженной речи,
усов
щетинка
вздернулась ввысь,
в складках лба
зажата
человечья,
в огромный лоб
огромная мысль.
Должно быть,
под ним
проходят тысячи...
Здесь Маяковскому удается совместить эффект огромности Ленина, его вырастания над миром, достигаемый благодаря гротескной «головастости», и близкий изобразительный план, позволяющий Я вступить в диалог с героем стихотворения.
Прямой контакт с надчеловеческой силой, с существом высшего порядка — постоянная лирическая ситуация в творчестве Маяковского: Я и солнце (начиная с цикла «Я!» и вплоть до «Необычайного приключения, бывшего с Владимиром Маяковским летом на даче»), Я и бог («Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек»), Я и Наполеон в одноименном раннем стихотворении, Я и великие преобразователи жизни в «Пятом интернационале». Лирический герой Маяковского как носитель творческой силы либо соперничает с великими, либо продолжает их дело:
Я стать хочу
в ряды Эдисонам,
Лениным в ряд,
в ряды Эйнштейнам.
Но в «Разговоре с товарищем Лениным» совершается перестройка ситуации, обусловленная кризисом лирического самосознания, который Маяковский тщетно пытается избыть. Стихотворение невольно, даже противувольно выявляет этот кризис.
Ленин говорящий, ораторствующий перед тысячами, изменяющий мир словом предстает идеальным воплощением пророка — на фоне того несбывшегося словесного овладения миром, к которому чувствовал себя призванным лирический герой («Я, // златоустейший, // чье каждое слово // душу новородит, // именинит тело...». Уступив пророческую миссию Ленину, лирический герой сам оказывается во власти оратора-пророка и отвечает на его воображаемую речь желанием «идти, приветствовать, рапортовать». Рапортовать, слово из идеологического, оптимистического лексикона эпохи, поставлено в сильную позицию; его веское звучание создает ожидание торжественного доклада о достигнутом. Но весь последующий рассказ опровергает пафос этого советского речевого жанра — на стилевом и композиционном уровне. Текст не может стать целеустремленным, не может соответствовать тому духоподъемному вектору, который поначалу представлен с нарочитой буквальностью — через жест:
Я встал со стула,
радостью высвечен...
М.Л. Гаспаров и И.Ю. Подгаецкая указали на повторяющийся в стихотворной публицистике Маяковского прием «выворачивания наизнанку» славословия и торжественного отчета («О дряни», «Вместо оды», «Долой шапки», «Не юбилейте» и др.), включив в этот ряд и соответствующий фрагмент «Разговора с товарищем Лениным»; прием, согласно их наблюдениям, мотивирован как дидактическими установками поэта (рано почивать на лаврах), так и поэтикой антитезы, восходящей к общей культуре авангарда. Мы считаем необходимым выделить «Разговор с товарищем Лениным» как особый случай: во-первых, здесь поэт обращается не к «воспитуемым», а к высшей для него моральной инстанции; во-вторых, антитеза (достижения — провалы) становится основой тяжелой рефлексии, несвойственной риторической поэзии.
Первый стилевой сбой возникает уже в самом начале торжественного «доклада»:
Товарищ Ленин,
я вам докладываю
не по службе, а по душе.
Товарищ Ленин,
работа адовая
будет
сделана
и делается уже.
Эпитет к работе — адовая — выделен инверсией, смещением в конец стиха, но особенно выразительно нарушение правила образования прилагательного от слова «ад», продиктованное вовсе не условиями рифмовки. Дактилическая клаузула «работа а́дова» вполне удовлетворительно сочеталась бы с гипердактилической «докла́дываю» (полные гипердактилические рифмы в русской поэзии редки, обычно экспериментальны); краткое прилагательное напоминало бы о выражении «адовы муки», которое стало устойчивым в результате закрепления переносного значения как основного. Отказавшись от усечения стиха, Маяковский заставил произносить окказиональный эпитет «адовая», скандируя каждый слог, в том числе и безударные. Такой семантический нажим оказывается взрывоопасным, поскольку коннотативное оживление представлений о преисподней не позволяет воспринимать эпитет лишь в его экспрессивной функции; редукция первичного значения прилагательных, производных от «ада», обращается поэтом вспять. Иначе говоря, мир, откуда взывает к Ленину лирический герой, оказывается кромешным.
Дальнейший перечень «достижений» не только противоречив — стилистически и содержательно; гораздо важнее сам характер развертывания поэтического высказывания, обнаруживающий внутренний конфликт поэта. М.Л. Гаспаров и его соавтор, проследив закономерности организации материала в стихах Маяковского, написанных к праздничным датам, приходят к выводу, что именно «Разговор с товарищем Лениным» нарушает тот динамический принцип «нарастания», который должен был непосредственно воздействовать на читателей (схема «мы помним — мы учимся — мы победим!» в «Парижской Коммуне» и т.п.); но каков закон сцепления и движения образов в этом не вполне «типичном» тексте, исследователями не сформулировано. Нуждаются в уточнении также заключения этих авторов о функции характерной для Маяковского двучленной или трехчленной антитезы «прошлое — настоящее», «настоящее — будущее», «прошлое — настоящее — будущее».
«Фотография на белой стене» дает выход в сферу идеала, в соединяющую прошлое и будущее вечность — длящийся революционный праздник, многотысячное шествие с флагами и тянущимися ввысь, к вождю, руками. Настоящее как время выполнения «ленинских заветов» (согласно официальной советской формуле) охарактеризовано сначала клятвой сделать «работу адовую», а затем перевернутым отражением праздничного шествия — лентой современных типов. В промежутке, всего двумя стихами, обозначены результаты чрезвычайных усилий по преобразованию жизни:
Освещаем,
одеваем нищь и оголь,
ширится добыча угля и руды...
Рационально выстроенные ассонансы и аллитерации, их скопление в начале многообещающего стихового «разбега» — все это усиливает значение формы за счет содержания, что является симптомом неразрешимой для поэта проблемы. «Нищь и оголь» — масштабный, соразмерный «работе адовой» образ, охватывающий массу людей, осчастливленный «советский народ». Но этот образ не имеет антропологических признаков, столь важных для позднего Маяковского. Напомним, что обида рядового человека, лишенного «вещей, обязательных при социализме», переживалась поэтом болезненно-лично; ему необходимо увидеть «коммунизма естество и плоть» не только как «пароходы, строчки и другие долгие дела» («Товарищу Нетте — пароходу и человеку»), но и как факты нового быта, как обыденные проявления человеческого преображения — внешнего и внутреннего. Не подтвержденное наглядно, слово о достигнутом благе оказывается, при всей эффектности формы, пустым. Закономерно, что с ним соседствует газетный штамп: «ширится добыча угля и руды...». Пауза, графически обозначенная многоточием, позволяет ощутить и эту формулу как «полое» слово. Ни испытание преображающей силы индивидуально-поэтического языка, ни апелляция к общим местам советского новояза не дает желанной для Маяковского визуализации обновленного мира.
Реальность жизни, какой она предстает на двенадцатом году революции, вынуждает оратора сменить жанр; вместо рапорта звучит горькая исповедь:
А рядом с этим,
конешно,
много,
много
разной
дряни и ерунды.
Устаешь
отбиваться и отгрызаться.
Многие
без вас
отбились от рук.
Очень
много
разных мерзавцев
ходят
по нашей земле
и вокруг.
Отвлеченному коллективному образу «советского народа» противопоставлено наглядное множество «мерзавцев», с каждым повтором эпитета «много» растут в своем значении «дрянь и ерунда». Первоначальный восторг, побуждавший встать навстречу исходящей от пророка силе, сменяется усталостью; эта усталость рождена не великой борьбой, но повседневным сопротивлением поэта той агрессии, которая исходит от современников, «новых людей»: «Устаешь отбиваться и отгрызаться». Это словоупотребление очень далеко от энергичного словесного жеста героя «Стихов о советском паспорте»: «Я волком бы выгрыз бюрократизм». Напротив, неологизм, созданный по модели глагола «огрызаться», в паре с «отбиваться» передает ожесточение, сопутствующее отчаянию. Для лирического героя, чье оружие — слово, необходимость «отгрызаться» означает ни много ни мало как риск утратить сам статус поэта, говорящего во весь голос. Эту трагическую подоплеку выявляет характерное для Маяковского самоопределение Я в горизонтально-вертикальных и временных координатах его художественного мира.
Декларируя в течение многих лет (вплоть до «Вступления» прощальной поэмы) свою готовность быть «ассенизатором и водовозом», Маяковский эмблематизировал и низменный объект воздействия, и «санитарный» контакт с ним — как жест, направленный сверху вниз и / или стелющийся: «Дрянцо хлещите рифм концом», «поэт / вылизывал / чахоткины плевки // шершавым языком плаката» и т.п. Столь же последовательно разрабатывая вертикальную образность — небесные, авиационные, строительные метафоры «будущего в настоящем», Маяковский предъявлял лирическое Я как олицетворенную устремленность ввысь и даже собственный высокий рост превращал в реализованную метафору будущего (образ этого ряда — шея-радиовышка в «Пятом интернационале», позволяющая заглянуть «в тридцатый век»).
Такая постановка лирического героя в художественном пространстве, где «горизонталь» — реальность, а «вертикаль» — путь в будущее, сообщала его повседневной активности особый — едва ли не безнадежный — характер: когда на сопротивление низового, «горизонтального» мира его преображающим усилиям поэт отвечал жестом «вознесения», «вздымания», «вырастания» над реальностью, «над бандой / поэтических / рвачей и выжиг», это означало перенесение последнего акта борьбы в грядущее, где победа неизбежна («Во весь голос»); в настоящем же борец с «дрянью и ерундой» обречен «отгрызаться», жертвовать своим превосходством («чувством вертикали»), своим парящим над миром голосом. Показательно, что важнейшие для Маяковского образы победительной творческой силы связаны с борьбой другого масштаба, например в «Письме товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»:
...из зева
до звезд
взвивается слово
золоторожденной кометой.
<...>
Чтоб подымать,
и вести, и влечь,
которые глазом ослабли.
Чтоб вражьи
головы
спиливать с плеч
хвостатой
сияющей саблей.
Очевидно, что здесь поэт вдохновляет читателей / слушателей на борьбу с врагами внешними (каковыми мыслились и «белые» в гражданской войне, и «наймиты империализма» в будущей мировой войне-революции). Между тем в «Разговоре с товарищем Лениным» лирическому герою приходится погружаться в толщу своей, советской жизни, которая все еще не преображена чаемой «революцией духа» (формула из «IV Интернационала»).
Кромешный мир навязывает поэту «вертикали» движение горизонтальное:
Нету
им
ни числа,
ни клички,
целая
лента типов
тянется.
Кулаки
и волокитчики,
подхалимы,
сектанты
и пьяницы.
Именно теперь советская действительность (жизнь без Ленина) впервые визуализируется, причем возникает неслучайная перекличка с ранним стихотворением «Ночь»:
Толпа — пестрошерстная быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома.
В обоих случаях перед нами все то же «мира безголовое тело», но вовсе не жаждущее (в отличие от мечущегося мира из стихотворения «Владимир Ильич!») воссоединиться с «головой» и обрести тем самым антропоморфную «завершенность». Еще раз подчеркнем контраст с исходным образом праздничного шествия («Должно быть, / под ним / проходят тысячи...»), которое воспринимается не протяженным, а устремленным ввысь («лес флагов, рук трава»).
Если «кулаки» и «сектанты» являются врагами внешними (одни — как «пережиток прошлого», другие — как «наймиты империализма»), то все остальные суть порождения самой революции, перехватившие у лирического героя право говорить о ее «достижениях»: «волокитчики» (новые бюрократы), «подхалимы» (процветающие при новой власти), «пьяницы» (из контекста поздней сатиры Маяковского понятно, что это тоже свои — активисты и начальники). Поэтому завершает перечень типов общий портрет хозяев положения, не имеющий никакого отношения к пресловутому «кулаку»:
...ходят,
гордо
выпятив груди,
в ручках сплошь
и в значках нагрудных.
Мир, над которым более не звучит живой голос вождя, обнаруживает тенденцию к регрессу, перерождению.
Ни пророком, ни литургом (по В.В. Мусатову) поэт здесь себя не ощущает. Он не может проявить творческую энергию, выстраивающую, оцельняющую такой мир. Лирический герой отождествляет себя с коллективным мы, которое отчитывается перед «товарищем Лениным», но по сути на всем протяжении поэтического рассказа (а не только во вступительной и завершающей части) речь идет об оставшемся без «товарища Ленина» одиноком Я, потому что мы не может так страдать от сопротивления реальности, это чувство индивидуальное. Попытка заговорить языком риторической уверенности постоянно срывается:
Мы их
всех,
конешно, скрутим,
но всех
скрутить
ужасно трудно.
Несостоявшийся рапорт сбивается на заклинание:
Товарищ Ленин,
по фабрикам дымным,
по землям,
покрытым
и снегом
и жнивьем,
вашим,
товарищ,
сердцем
и именем
думаем,
дышим,
боремся
и живем!..
Ленин воображается присутствующим над всеми пространствами (городскими, фабричными и сельскими), во всех временах (годовой цикл свернут в парный образ «снег и жнивье», метонимически представляющий зиму и лето), его имени приписывается миротворящая власть. Без его сакрального воздействия на мир нельзя удержать чувство цели, жизненный смысл: послереволюционная жизнь сама по себе смысл не порождает.
Кольцевая композиция, которая в риторических стихах Маяковского служит, по наблюдениям М.Л. Гаспарова, собиранию стиховых «блоков» и / или усилению императивного эффекта, здесь, во-первых, структурно усложнена и, во-вторых, выполняет иную функцию. Создается двойное кольцо: клятвам сделать всем вместе «работу адовую» соответствует заклинание «думаем, / дышим, / боремся / и живем», целое обрамлено картиной вечернего уединенного обращения к «товарищу Ленину». Главное же заключается в том, что внешняя и внутренняя «рамки» взаимодействуют диалогически. Буквальное повторение первой части в финале служит отнюдь не механическому скреплению элементов текста: именно на фоне клятв от лица мы становится понятно, что Я, при всем желании стать частью коллективного деятеля и коллективного глашатая нового мира, неизбежно возвращается к себе самому, к изначальной потребности личного контакта с высшей инстанцией. Советский риторический дискурс разоблачает сам себя: он не может служить универсальному разрешению тех конфликтов, которые возникают при самоопределении Я в действительности; он не порождает образов, «завершающих» для лирического героя картину бытия. Кольцевая композиция фиксирует рубеж, на котором риторика оказывается бессильной. Мы теряет свою устойчивость в пространстве ночной исповеди, Я вступает в область личной ответственности перед идеалом.
В этом движении образов реализуются важные для Маяковского отношения со временем. Риторически бодрое слово не нуждается в точных временных координатах; оно звучит в пространстве условной современности, долженствующей стать будущим, то есть в «большой истории». Включенности в историческое время противопоставлено время суточное — личное, причем особое значение получает вечер и ночь, когда лирический герой исповедуется и напряженно ищет смысл происходящего.
