Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Евгений Добренко, Наталья Джонссон-Скрадоль. Госсмех: сталинизм и комическое. М.: Новое литературное обозрение, 2022. Содержание
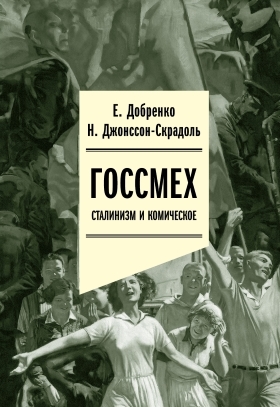 Год великого перелома оказался переломным и в истории советского фельетона. Резко изменился его характер, а спор о том, является ли он жанром литературным или публицистическим, неожиданно приобрел актуальное политическое содержание. Связано это было с тем, что формалистский подход к фельетону как к синтетическому жанру, находящемуся между литературой и журналистикой, поддерживался Бухариным, в чем усматривалась теперь политически зловредная тенденция: они-де защищают теорию, которая «приводит в их чаяниях и ожиданиях (но, к счастью, не в действительном процессе исторического развития жанров) к выхолащиванию из советского фельетона, жанра боевого по преимуществу, его политического существа, к умерщвлению его публицистической функции».
Год великого перелома оказался переломным и в истории советского фельетона. Резко изменился его характер, а спор о том, является ли он жанром литературным или публицистическим, неожиданно приобрел актуальное политическое содержание. Связано это было с тем, что формалистский подход к фельетону как к синтетическому жанру, находящемуся между литературой и журналистикой, поддерживался Бухариным, в чем усматривалась теперь политически зловредная тенденция: они-де защищают теорию, которая «приводит в их чаяниях и ожиданиях (но, к счастью, не в действительном процессе исторического развития жанров) к выхолащиванию из советского фельетона, жанра боевого по преимуществу, его политического существа, к умерщвлению его публицистической функции».
Но публицистическая функция фельетона не отмирала. Напротив, именно в год «великого перелома» советский фельетон сместил фокус с социальной сатиры на (внутри)политическую, превратившись в настоящее «оружие партии» — инструмент террора. Это был поистине убивающий смех: то, что раньше кодифицировалось как «пережитки» и «недостатки», стало определяться в категориях политического криминала и быстро заполнило советские газеты. Представление об этом дает сборник одного из ведущих фельетонистов «Известий» Григория Рыклина «Смех в зале», оперативно вышедший сразу после XVI съезда партии и собравший под своей обложкой фельетоны, ранее увидевшие свет в центральных газетах. Сатирические фельетоны, едва ли не каждый из которых завершался прямым призывом к расправе, были разбиты здесь на тематические блоки. Так, раздел «Справа» объединял фельетоны про правый уклон. Фельетон «Откуда это берется?» (1929), рассказывавший о недовольном политикой партии в деревне некоем Цветкове, заканчивался так:
«Откровенно говоря, сам Цветков нас мало интересует. Но почва, на которой он произрастает, питает не одно растеньице. Если вчитаться внимательно в выступления правых, особенно внимательно продумать выступления некоторых деревенских коммунистов на собраниях, на местных партийных конференциях, то мы услышим там многое (конечно, не все и не в такой форме) из той оперы, которую так сладко поет Цветков. И насчет „реставрации крепостничества“, и насчет мирного обхождения с кулаком, и насчет недоверия, и насчет оценки бедноты. И тогда мы говорим: вот откуда это берется, вот из каких цветков они тянут свой сок. Все это идет от Цветкова, от цветковщины, от очищенной, ничем не прикрашенной кулацкой идеологии».
Как можно видеть, сталинская сатира отнюдь не всегда боялась обобщений. Напротив, охотно к ним прибегала, перерождаясь из сатиры в погромную публицистику: кроме ернического тона, сатирического в ней ничего нет. Основная функция этих текстов не сатирическая, но мобилизационная. Их основной прием — генерализация: политические обобщения («цветковщина») — изобретение политических ярлыков. Следующий фельетон о местных безобразиях завершался тем же призывом к разоблачению и самокритике: «Полностью разоблачить все подобные шутки можно только при активном содействии масс».
Если фельетон 1920-х был заострен социально, то фельетон 1930-х — политически. При этом изменялась не столько сфера изображения, сколько кодификация объектов сатиры: социальные практики на глазах политизируются, превращаясь в террористические. Так, в фельетоне «Болото» (1929) рассказывается о том, как разложившееся начальство одного из районов Татарстана (среди них — районный судья, секретарь райкома партии и начальник торгового отдела), напившись и устроив массовую драку в лесу, пытаются оклеветать рабкора Федотова, который написал про эту пьянку в газету «Советская Татария». Эти люди изгоняют самого Федотова из партии за... пьянку, каковой квалифицируется... «распитие бутылки пива». Но рабкора поддерживают трудящиеся: «Рабочие и крестьяне, партийные и беспартийные, татары и русские писали в газету о том, что у них делается на местах, как пьянствует и безобразничает прогнившая, оторвавшаяся от масс верхушка советского аппарата». Какова же тактика фельетониста? Он подает своего рода «встречный иск», где вместо бытового разложения возводит на начальство района политические обвинения:
«Соотношение классовых сил на деревне — наступление кулака, доходящее до вершин наглости, и зажим бедноты — вот что лучше всяких пьянок и побоищ характеризует работу советских организаций в Буинском кантоне.
Кто в Турухановской волости ведет самую ярую агитацию против колхозов? — Председатель волисполкома Бюре. Кто такой Бюре? — Известный по всей округе кулак и мракобес.
Зав. отделом канткома Хайруллин выдает справки для поступления в вузы кулацким сыновьям и в справках указывает, что их родители — бедняки. Кто учится в школах Бурундуковской волости? Дети мулл и кулаков. А дети бедноты? Для них „местов нет“».
Примеры растут как снежный ком:
«Можно было бы привести десятки подобных примеров. Можно было бы подробно рассказать и о том, как некоторые ответственные работники якшались и пьянствовали с кулаками и муллами, как они ходатайствовали о предоставлении голоса лишенным избирательных прав заядлым кулакам и т. д».
Но фельетонист решает не загружать читателей примерами и в финале сообщает:
«OK и OKK (обком и областная контрольная комиссия. — Е. Д.) постановили: распустить и произвести перевыборы бюро канткома, произвести пересмотр основных звеньев аппарата и проверку ряда парторганизаций. Секретарю канткома и уполномоченному OKK вынесен строгий выговор, они сняты с работы с запрещением занимать ответственные посты. Исключен из партии и снят с работы ряд ответственных работников. Несколько человек, в том числе злостные кулаки, арестованы. Нарыв вскрыт».
«Действенность» и «оперативность» фельетона приобретают буквальный смысл: он становится эффективным оперативным инструментом чисток, а читатели превращаются в объект террора и делятся на две категории: «Люди и шлак» — именно так называется второй раздел книги Рыклина, куда входят фельетоны о приписках и халтуре, о головотяпстве и безответственности, о пустобайстве и бесхозяйственности, о бюрократизме и очковтирательстве. За всем этим фельетонист видит происки классового врага. Вот как говорится о бюрократе в фельетоне «В ответ на ваше отношение...»:
«Попробуйте обвинить автора этого отношения в волоките, — он ведь ответил в срок, точно и аккуратно. Попробуйте упрекнуть его в плохой постановке учета, — смотрите, на все имеется своя цыфирь, на все имеется свой ответ. Этот человек очень чистенький, аккуратный, вежливый, предупредительный. С таким гражданином не страшно повстречаться глубокой ночью в темном переулке, — он даже уступит дорогу. Но поглядите на него внимательно — он страшен. Он опаснее вора и вреднее суслика. Он с улыбкой обманывает вас. Он с иноческим смирением издевается над вами. Изливая елейные речи, он тихонько сыплет песок в мотор машины. Такова его натура».
Бесконечный набор традиционных советских объектов сатиры на глазах резко редуцируется до одной — расстрельной — категории: «классовый враг». Вот как завершается фельетон о низкой трудовой дисциплине «Люди и шлак»:
«Рядом с металлом, с горячим чугуном из домны льется шлак. Неопытному человеку кажется, что это металл. Внешне он так же красен, как раскаленный чугун. Но это лишь отходы чугуна, никому ненужные отбросы, увозимые в ковшах на свалку. Имеется на заводе и людской шлак. Человечки, ударяющиеся в панику перед трудностями. Пьяницы, прогульщики, вредители, лжеударники, кулачки и их идеологические попутчики.
Это — отходы. Небольшие прыщики на здоровом теле. Завод постепенно очищается от шлака. A с отсталыми и несознательными ведет борьбу сама рабочая общественность. Все больше и больше начинают проявлять себя товарищеские суды».
В таких финалах ерничество и сарказм сменяется обличением, фельетонист превращается в прокурора, требующего суда и справедливости. Хорошо демонстрирует этот вид смеха фельетон «Коршуны и микробы»:
«Некоторые ученые мужи под влиянием тех процессов, которые происходят ныне в стране, все более и более открывают свои темные лики. То, что хранилось, как заветное и дорогое, что пряталось в тайниках души под семью печатями, вырывается теперь наружу. Осколки реакции, приютившиеся на университетских кафедрах, начинают перекликаться. „Ау! Подай голосок через темный лесок!“»
Главный злодей — многолетний руководитель Бактериологического Общества профессор Коршун, директор Мечниковского института, который якобы работал в армии Деникина и теперь покрывает реакционных профессоров Бактериологического общества. Автор приводит примеры их «реакционных выступлений»: один в лекции сравнил большевиков с кишечными бактериями, другой говорит, что естествознание ненаучно и все зависит от «высших божественных начал», и т. п. Факт неизбрания в президиум Общества ни одного из членов комфракции — это политическая демонстрация. «Издевательствам и глумлению — нет конца», — гневается фельетонист, завершая очерк прямыми угрозами и призывами к расправе:
«Ежели комфракция выступает против реакционеров — это „гонение на интеллигенцию“. А ежели реакционеры травят инакомыслящих — это в порядке вещей. Такова готтентотская мораль деникинских коршунов.
Советская страна предоставляет для старых специалистов широкие возможности для работы, для творчества. Но никогда, никому, какие бы у него ни были научные заслуги, она не предоставляет возможности свободно распоряжаться своими реакционными ресурсами.
Храните, если вам очень хочется, сии подозрительные богатства у себя дома... Но выходить на улицу с оружием, против нас? Видать, плохого вы о нас мнения».
Советский фельетон стал в сталинскую эпоху живым воплощением советского понимания сатиры как «обвинительного приговора». К советской действительности это, разумеется, не относилось, но обвиняемые были реальными людьми. Появление такого фельетона в партийной печати означало неминуемое наказание. Когда он появлялся в «Правде», речь могла идти о самых печальных для героев фельетона последствиях. Главным фельетонистом «Правды» в 1920–1930-е годы был Михаил Кольцов. И его фельетоны нередко прямо апеллировали к милиции, прокурору, судье. Торжество этой пенитенциарной эстетики обычно происходило в финале. История при этом могла быть самой водевильной. Один из самых известных фельетонов Кольцова «К вопросу о тупоумии» соединял в себе факт с анекдотом. Начальник Еланского потребительского общества спустил директиву, завершавшуюся словами «...усильте заготовку», а поскольку «директиву без номера спускать не приходится, <...> листок порхнул в регистратуру и вернулся с мощным солидным номером». После чего последовала подпись начальника: «Воробьев».
Спустя некоторое время уполномоченный районного потребительского общества в Ионово-Ежовке расправил телеграфный бланк и звонко прочел уполномоченному райисполкома приказание высшего кооперативного центра: «...усильте заготовку 13 530 воробьев». Далее следует вполне кафкианская история того, как началась заготовка, проходившая не только днем, но и ночью при фонарях, с соревнованием колхозов и т. д. В самый разгар воробьиных заготовок в Ионово-Ежовку приехали по другим делам районный прокурор, народный судья, представитель районной милиции, бригада райисполкома по обследованию местной работы. Найдя ежовцев «в больших заботах», она оказалась на митинге протеста, где уполномоченный райисполкома, зловеще поблескивая очками, заявил: «Тот факт, что кошки съели двести воробьев, мы рассматриваем как вредительство, как срыв боевого задания государства. За это мы будем кого следует судить. Но при этом мы должны на действия кошек ответить усиленной заготовкой воробьев».
В финале недоразумение, конечно, выясняется, но Кольцов не склонен проявлять «гнилой либерализм»: читателю, который усматривает в происшедшем «безобидное тупоумие», он объясняет, что пора наконец «вступить всерьез в борьбу и с этим милым качеством», что вообще нельзя говорить «о тупоумии как о безобидном, природном, „объективном“ качестве». Тех, «кто, спекулируя, злоупотребляя этой дисциплиной, переводит выполнение в издевательство, беспрекословность — в солдафонство», фельетонист предлагает судить. И это не фигура речи:
«При воробьиных заготовках на селе присутствовали работники из района — прокурор, судья, начальник милиции. Кто поверит, что эти уважаемые лица, нет, не лица, а рожи, сочли заготовку воробьев нормальным делом?.. Нет! Каждый из них мысленно изумлялся балагану с воробьями. Но каждый молчал. Мы сейчас перебираем сверху донизу советскую и кооперативную систему. Выбрасываем гнилое, чужое, вредное. Не надо делать исключений для людей, изображающих из себя дурачков. Таких „наивных“, как те, что заготовляли воробьев, можно воспитывать только в одном месте. В тюрьме».
Если тюрьма плачет по тем, кто, с одной стороны, беспрекословно готов выполнять директивы, то с другой — она грозит тем, кто проявляет самоуправство. Герои фельетона «Скорей, скорей в тюрьму!» — представители одной фабрики, учинившие погром на другой фабрике, которая отказалась по суду освобождать помещение. Красочно рассказав о происшедшем, Кольцов завершил свой рассказ словами: «Пусть Федоров, Удалов и их помощники, не теряя золотого времени, сейчас же поспешат в тюрьму. Пусть предъявят у входа этот номер „Правды“ — и их пропустят немедленно, вне всякой очереди». В данном случае не понадобилась даже апелляция к милиции, прокурору и суду — фельетонист взял на себя функции их всех. Столь буквальное понимание сатиры как обвинительного приговора героям (которые в фельетонах — реальные люди), столь расширительное и вольное понимание оснований для обвинений, та легкость, с которой они выдвигались, делали ее органичной частью сталинского террора, его действенным (в силу огромной популярности) инструментом.
Михаил Кольцов, который был самым известным журналистом СССР и законодателем советского фельетона, продемонстрировал своим творчеством безусловную эффективность этой «малой формы». Если проследить за хронологией объектов его фельетонов (а среди двух тысяч его журналистских выступлений были многие сотни фельетонов) за почти два десятилетия — от «белоэмигрантов» и «бывших» до нэпманов и кулаков, от всякого рода саботажников и «разложившихся бюрократов» до партийных оппозиционеров и «врагов народа», легко увидеть, что сатира Кольцова служила самым актуальным целям режима, и насколько короток был поводок партийного сатирика, насколько политически инструментальным был созданный им жанр. Речь идет не только о злободневных выступлениях Кольцова, но и о сатире более общего характера.
Обратимся к самому известному фельетону Кольцова «Иван Вадимович — человек на уровне», вошедшему не только во все антологии советской сатиры, но и во все учебники журналистики. Это остросатирический портрет «ответственного товарища», написанный в форме саморазоблачающего первого лица. Кольцов с предельной аккуратностью выстраивает образ номенклатурного работника высокого ранга. Строя фельетон на сменяющихся монологах героя, он показывает его в различных ситуациях: «Иван Вадимович хоронит товарища», «Иван Вадимович на линии огня», «Иван Вадимович любит литературу», «Иван Вадимович принимает гостей», «Иван Вадимович распределяет», «Иван Вадимович лицом к потомству», «Ивану Вадимовичу не спится». Беседы с коллегами в неформальной обстановке, выступления на официальных мероприятиях, рассуждения об искусстве, разговоры с гостями, нотации детям, поток сознания во время бессонницы... Бесконечная цепь монологов героя не просто раскрывала «мурло мещанина», но создавала законченный тип циника и карьериста, разложившегося партийного бюрократа, не только не имеющего ничего общего с «идеалами коммунизма», но буквально пропитанного мелкобуржуазностью.
Появившийся в период короткой оттепели (апрель 1932 — 1 декабря 1934), фельетон Кольцова потряс современников точностью и откровенностью. «Перерождение аппарата» было табу со времени разгрома левой оппозиции (именно в этом обвинял «сталинские кадры» Троцкий). Но этот прицельный «огонь по штабам» не был ни инициативой Кольцова, ни результатом его смелости. Он открывал сезон охоты и готовил почву для последующей атаки на «кадры». Сталин не раз будет использовать сатиру в качестве легитимации намеченных кадровых чисток (достаточно вспомнить «Фронт» Корнейчука, по сути обосновывавший чистку старых военных кадров во время войны). Типичный партийный чинуша и приспособленец, Иван Вадимович представлял собой тот ненавистный тип «перерожденца», (само)разоблачение которого оправдывало в глазах населения готовившееся Сталиным уничтожение «старой партийной гвардии» и замену ее сталинскими выдвиженцами — Иванами Вадимовичами нового призыва.
Усилиями Кольцова, Рыклина, Заславского и других фельетон превратился в орудие внутрипартийной борьбы, был направлен против «левых» и «правых» оппозиционеров и утверждал сталинскую «генеральную линию». Именно в это время он доказал свою незаменимость в качестве политического инструмента, способного донести до «широких масс» в доступной и заостренной форме «политику партии». Однако инструментальность кольцовского фельетона, его пенитенциарная эстетика и ориентация на «действенность» не должны вводить в заблуждение. Самый популярный советский фельетонист, определивший основные черты и специфику жанра, Кольцов, бывший душой многих сатирических изданий, одним из первых подошел к идее положительной сатиры. В письме Горькому в 1928 году он так формулировал задачи создававшегося им на месте «Смехача» нового сатирического журнала «Чудак» (1928–1930):
«Название „Чудак“ взято не случайно. Мы, как перчатку, подбираем это слово, которое обыватель недоуменно и холодно бросает, видя отклонение от его, обывателя, удобной тропинки: — Верит в социалистическое строительство, вот чудак! — Подписался на заем, вот чудак! Пренебрегает хорошим жалованьем, чудак! — Мы окрашиваем пренебрежительную кличку в тона романтизма и бодрости. „Чудак“ представительствует не желчную сатиру, а полнокровен, весел и здоров, хотя часто гневен и вспыльчив. „Чудак“ — не принципиальный ругатель, наоборот, он драчливо защищает многих, несправедливо заруганных при общем попустительстве, он охотно обращает свое колючее перо против присяжных скептиков и нытиков. Иными словами, „Чудак“, как Горький, играет на повышение. Вот, в самых общих чертах, основное умонастроение редакции».
Перед нами — пока в мягкой форме — программа позитивной сатиры. Она неслучайно формулировалась Кольцовым на излете нэпа. Он верно понял, что нужна новая идеологическая упаковка советской сатиры — ее оправдание теперь следовало искать не в нэпе, не в «мелкобуржуазной стихии», но в самой советской реальности. Это тем более требовало от сатириков (а в «Чудаке» сотрудничали Маяковский, Катаев, Зощенко, Олеша, Михаил Светлов, Лев Никулин, Борис Левин, братья Тур, Ефим Зозуля, В. Ардов, А. Зорич, Григорий Рыклин; часто печатал здесь свои фельетоны и сам редактор — Михаил Кольцов) искусства балансировки. Кольцов не только формулировал подходы к положительной сатире, но и сам дал первые ее образцы в своих фельетонах о «наших достижениях» — о строительстве Шатурской ГЭС, бумажного комбината в Балахне, открытии грязевого курорта в Миргороде и др. Именно на страницах «Чудака» в роковом 1929 году напечатает Маяковский стихотворение «Мрачное о юмористах», где призывал сатирика:
В километр
жало вызмей
против всех,
кто зря
сидят
На труде,
На коммунизме!
Эта партийная сатира должна была окончательно превратить критику в самокритику.
