«У нас как змея: старшие голова, младшие хвост»
Отрывки из книги «Между традицией и модерном. Жизнь северокавказских сельских сообществ в постсоветское время»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Константин Казенин, Ирина Стародубовская. Между традицией и модерном. Жизнь северокавказских сельских сообществ в постсоветское время. М.: Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники»; Common Place, 2025. Содержание
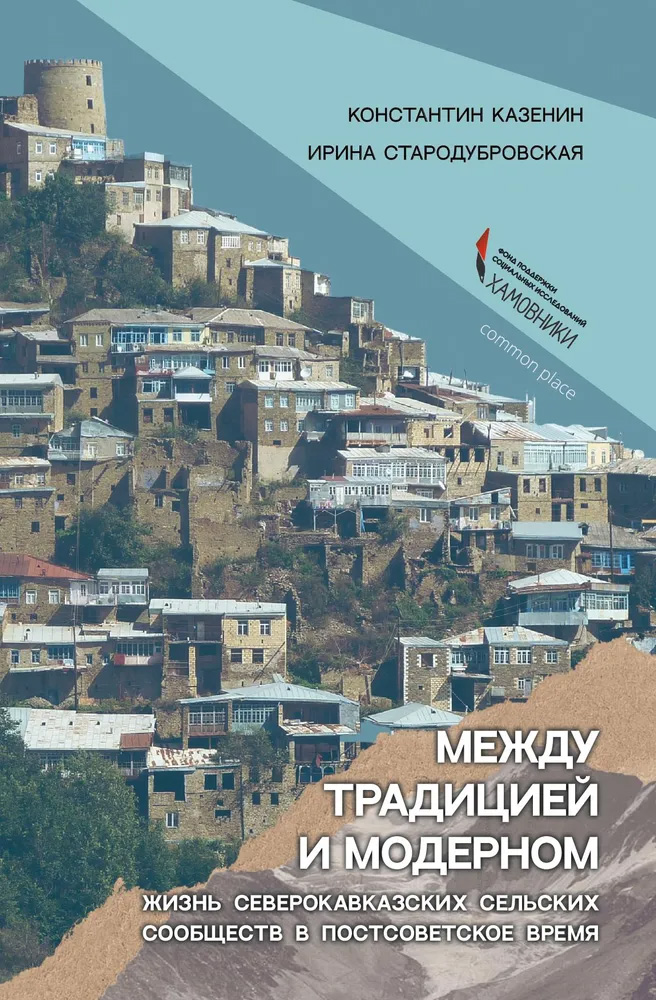 СОГРАТЛЬ, ГУНИБСКИЙ РАЙОН
СОГРАТЛЬ, ГУНИБСКИЙ РАЙОН
Одна из особенностей согратлинского сообщества состояла в том, что здесь осознанно рефлексировали по вопросу необходимости смены модели семейных отношений (единственный случай за всю историю проведения исследований). «Чего нету в наших горских семьях — открытого разговора, дружеских отношений с детьми. Матери с дочерью... Сына с отцом. <...> Не умеют детей хвалить, не умеют детей поощрять. Как-то даже словом». Причем сложившаяся модель внутрисемейных отношений, по словам информантов, оказалась достаточно устойчивой. «Нас как воспитывали, так и мы воспитываем. Отклониться от этого боятся, просто боятся. Дети тоже боятся». Однако изменения в этой сфере начинали происходить. «Ломается. Постепенно, постепенно уже как-то. В каждой семье по-разному».
Очень показательным в этом отношении был монолог одного из школьных работников (старше 50 лет): «Я своих родителей винить не могу. Знаете, три-четыре класса образования. Они только видели работу. Колхоз, колхоз, туда-сюда. Они приходили домой ночью, вечером. У них субботы-воскресенья не было. Пять-шесть детей, нас надо было им кормить... Им некогда было, им надо было колхоз сперва сделать, потом себе еще чуть-чуть, и детям. А я отучился, я понял, что с детьми я не хочу так. Я не хочу сказать, что отец меня обижал. Ему некогда было со мной заниматься. Я со своими детьми — я ихний одноклассник, я ихний друг, я и отец, где нужно, и мать. Но они знают эту рамку, они не выходят, вот эту связь я держу потому, что так вижу. Их нельзя унижать. Их, если нужно, надо наказать. Они должны знать — за что. Их надо хвалить, когда нужно. Не все время — когда нужно».
ХОТОДА, ШАМИЛЬСКИЙ РАЙОН
В селе декларировалось полное послушание младших старшим: «У нас как змея: старшие — голова, младшие — хвост. Старшие указывают, как делать, что делать. Младшие слушаются. <...> Старшие много видали в своей жизни, их слушаться и как они говорят если сделать — никогда не ошибешься»; «Наша молодежь всегда слушает стариков»; «У родителей к своим детям есть принуждение». При этом большая образованность младших не отменяла их менее высокого статуса по сравнению со стариками. Один из информантов рассказывал, как его дед — чабан — называл отца «дурак с высшим образованием».
Что касается создания семьи, то здесь, судя по всему, решения обычно принимались консенсусно. По словам информантов, молодому человеку предлагался список из трех — пяти кандидатур либо ему давали возможность найти избранницу самостоятельно. Если с каким-то тухумом в селе были плохие отношения, «они мне просто предлагают, чтобы этот тухум пропустил [при выборе невесты]. Категорически, чтоб ты его пропустил, тоже не говорят. Желательно из этого тухума девушку не брать, у нас с ними не очень хорошие отношения».
КУМУХ, ЛАКСКИЙ РАЙОН
Поколенческие иерархии в селе были серьезно размыты. Судя по всему, этот процесс начался в 1970–1980‑х годах. Хотя старшее поколение помнило и другие времена: «Для них же было понятие: что родитель сказал — ребенок выполнил, сделал. Это у них было заложено»; «Тогда среди молодежи больше было почтения к старшим, уважения и так далее. Больше было»; «Раньше было намного другое отношение. Ученик не мог учителю посмотреть в глаза. Сейчас дети не слушаются родителей, если замечание сделаешь против них».
При этом чувствовался серьезный межпоколенческий разрыв между старшими, жившими в селе, и городской молодежью: «Взрослое поколение — оно массово <...> коммунисты, тоже ни во что не верят, какими-то там россказнями живут непонятными. <...> Как раз между лакцами вот этот разрыв между поколениями очень сильный ощущается. Просто на разных языках». Приезжая в город, люди попадали в совершенно иную культурную среду и вынуждены были к ней адаптироваться: «Вот эти коммуняки, они сюда приезжают и узнают, что, оказывается, есть альтернативное мировоззрение... И оказывается, таких альтернативных мировоззрений, их даже не одно и не два, а может быть и больше. И они как-то вот в процессе, кто-то перестраивается, кто-то, конечно, может быть там совсем закостенелый остается. Их меньшинство».
ТПИГ, АГУЛЬСКИЙ РАЙОН
Так, полярные позиции высказывались о том, кто определяет, какое образование будет получать ребенок: «это должен решать родитель»; «ребенок должен решать». Некоторые отмечали, что родители вынуждены брать на себя ответственность, поскольку дети достаточно инертны и инфантильны: «Раньше какая-то цель была у детей, можно сказать, лет 10 назад. Еще раньше целенаправленно дети знали, куда они идут, что они хотят, какую профессию они будут дальше получать. А сейчас: папа-мама, папа-мама». Другие считали, что сами родители своими действиями подрывают инициативу детей: «Родители мешают. Не дают родители самим выбрать».
В воспитании детей, по мнению информантов, применялись достаточно мягкие методы. Физические наказания, судя по всему, не были приняты. В некоторых семьях хвалили детей, в других считали, что это подрывает дисциплину. Были примеры, когда мама воспринималась как подружка, с ней можно было обсуждать интимные вопросы. Отцы участвовали в воспитании детей, в том числе дочерей. Папы могли гулять с детьми в выходные, отвозить и забирать их из школы или детского сада.
Тем не менее определенная дистанция между поколениями, судя по всему, сохранялась. Так, по словам информантов, представители разных поколений не стали бы вместе играть в футбол или смотреть кино «про любовь», хотя молодежь в своем кругу такие фильмы смотреть могла (девушки и юноши — отдельно). Отцы старались поддерживать свой авторитет, избегая ситуаций, где они могли бы, к примеру, при сыне выругаться матом.
Выбор брачного партнера сильно либерализовался на памяти ныне живущих поколений. Женщины старшего возраста вспоминали о том, что их никто не спрашивал при выборе будущего супруга: «Раньше по-другому. Мне мать сказала: выйдешь за этого. Я даже парня, мужа не знала своего»; «Я на работе была. Прихожу — у нас компания. Что за компания, говорю, мам? Ты, говорит, замуж выходишь». На момент проведения исследования девушки были абсолютно уверены, что силком их никто замуж не выдаст: «Родители же насильно не выдадут тебя, если ты сама не хочешь». Более того, некоторые девушки вообще ставили под вопрос желательность брака, воспринимая доминирование мужа как нечто мешающее их собственному развитию: «Зачем? Они контролируют вечно». Подобные высказывания могут восприниматься как фронда и совершенно не означают, что девушки действительно будут избегать замужества. Тем не менее сам факт, что такая позиция была озвучена, достаточно показателен.
РИЧА, АГУЛЬСКИЙ РАЙОН
Тем не менее утверждалось, что были случаи, когда сын уезжал и женился без спроса. Общественное мнение негативно относилось к подобным практикам: «Себя уважающий молодой человек должен обязательно где-то брать хороший совет». Но семьи обычно в конце концов мирились: «Время все грани стирает». То же происходило в случае кражи невесты, которая обычно организовывалась по предварительной договоренности сторон, но без уведомления родителей.
Расширенная семья активно участвовала в решении основных вопросов жизни ее членов. Молодой учитель вспоминал, что проблему, куда поступать после школы, обсуждали не родители, а более широкий круг родственников. Они предложили свой вариант, потом спросили у него, он согласился. Девушке-старшекласснице выбор профессии подсказали старшие сестры. Также на семейном совете нередко обсуждался и брачный выбор: «У нас как вот семья собирается и решает этот вопрос». Причем мнение отца не всегда являлось определяющим. Один из информантов, по его словам, не хотел отдавать замуж свою старшую дочь, которой тогда еще не было 18, но мнение старшего брата и матери перевесило: «Если семья порядочная, то возражать тоже уже не стоит».
В 1990‑е годы девушки не получали высшего образования, хотя, по имеющейся информации, в советское время такие случаи были. На момент проведения исследования раннее замужество не всегда означало невозможность продолжить образование. Девушка могла получать его заочно или очно. Молодая семья могла, например, жить на квартире в Махачкале, муж — работать на стройке, жена — ходить на занятия. Однако такие практики не были универсальными. У девушек, вышедших замуж после 9‑го класса, даже получение аттестата о среднем образовании могло вызвать трудности, причем были случаи, когда, как утверждали некоторые информанты, эта проблема решалась за деньги — аттестаты покупались.
Вопрос о дальнейшей учебе дочери мог обсуждаться в ходе сватовства, в основном его решали родители с учетом мнения детей. Муж в принципе мог запретить жене учиться (что, судя по всему, происходило редко) или работать: «Перечить мужу некрасиво». Ослушание мужа упоминалось информантами в качестве одной из распространенных причин внутрисемейных конфликтов.
В школе из 38 учителей 14 были женщинами, 12 из них — молодыми, все — местными. Однако на встречу с учительским коллективом ни одну из женщин не пригласили — участвовали только мужчины.
В ходе беседы со старшеклассниками девушки гораздо менее осмысленно рассуждали о своем будущем, чем школьницы в Тпиге. Исключение представляла дочь достаточно известных родителей из Махачкалы, которая жила в селе у бабушки с дедушкой. Она не только мечтала стать бизнес-леди, главврачом собственной больницы за пределами России, но и, по ее словам, активно учила иностранные языки.
КАРАБУДАХКЕНТ, КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН
Дифференциацию поколенческих отношений можно продемонстрировать на примере одной семьи, с несколькими членами которой удалось пообщаться достаточно подробно. Обсуждались жизненные стратегии двух молодых людей — близких родственников. Один, по его словам, с подачи мамы поступил в институт и теперь ждал, когда его устроят в армию, после чего ему обещали помочь получить работу в МВД. В принципе, у него была возможность альтернативной карьеры, но поколенческие иерархии не позволили реализовать этот шанс:
«— Родители тоже не хотят, чтобы я туда-сюда-обратно ехал. И одного в город тоже не хотят отпускать. <...>
— А в Москве бывал?
— Бабуля не хочет отпускать.
— А сам хочешь?
— Да. В Москве все есть. Бабуля не хочет отпускать.
ХУРИК, ТАБАСАРАНСКИЙ РАЙОН
Тухумы по-прежнему имели определенное значение в жизни сельчан. Одной из общественных структур, участвовавших в управлении местным сообществом, являлся совет старейшин, и эти старейшины делегировались от тухумов. Старший в тухуме, судя по всему, играл не только церемониальную роль, с ним согласовывались и содержательные решения — браки детей, строительство дома. Однако его мнение, как говорили информанты, уже не являлось истиной в последней инстанции. И в целом значение тухумных отношений, видимо, ослабевало.
По мнению собеседников, кроме праздников, свадеб и похорон, где значение тухума по-прежнему было достаточно велико (как и во многих других сельских сообществах), тухум мог играть определенную роль в следующих контекстах:
Брачные отношения. В отличие от ситуации во многих других местных сообществах в Дагестане, в селе не поощрялись внутритухумные браки. Наоборот, считалось, что жену надо брать из другого тухума. Близкородственные браки были редки, они не осуждались, но и не поддерживались. В принципе, родственники могли проявить негативное отношение к невесте из «плохого» тухума, но, судя по всему, эта практика отходила в прошлое.
Выборы. Насколько можно понять, на выборах принципиальную роль играли два фактора: родственные отношения и административный ресурс: «Грамотный, знающий человек пролетит как ласточка, если его тухум небольшой. Если с района руководство не захочет его, он пролетит как ласточка»; «Обычно на выборах бывают такие люди, которые нам не нравятся. Мы выбираем из этих зол самое наименьшее, и своего родственника». Случалось, что эти два фактора вступали в противоречие. И человек, имевший административную поддержку, мог пойти на выборы даже против воли отца (и отец смирялся).
Строительство дома. В селе было принято, чтобы члены тухума помогали родственникам строить дом (это называлось «мил»). Однако и эта традиция постепенно отмирала. Люди предпочитали нанимать на строительство специализированные бригады: «Семейный бюджет позволяет говорить „я“ [то есть решать вопросы самостоятельно]. А раньше уважение было. Друг другу помогали».
ДОРГЕЛИ, КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН
Хотя дети начинали работать рано — с 15–16 лет, — заработанными ими деньгами распоряжались преимущественно родители. Во всяком случае, до того, как молодой человек создаст семью. «Когда он сам семейным будет, он сам себе делает деньги». Даже если молодой человек, например, заработал себе на машину, покупать ее или нет — решали старшие. Вообще, если старшие что-либо запрещали, для большинства сельчан «закрывается тема», поскольку без согласия родителей совершать какие-либо значимые действия считалось невозможным.
Подобная ситуация господства внешнего контроля приводила к тому, что механизмы самоконтроля у молодых людей оказывались недостаточно развитыми. «Те, кто в городе, — начали пить, гулять. <...> Боятся детей отпустить туда — может испортиться». По мнению информантов, единственный способ бороться с этим — вернуть ребенка (пусть и великовозрастного) в село, под собственный контроль. «Меня отец вернул сюда и начал контролировать — не пить, не курить, не гулять. Я не хотел жениться — поженили меня. Спасибо ему».
Информанты отмечали и изменения в поведении молодежи в отношении старших, свидетельствовавшие о снижении эффективности контроля через механизмы страха и стыда. «Раньше, знаете, вообще вот с учителями так вот, сейчас как, не разговаривали. Боялись. Я не знаю, как с подружками вот сейчас, в данное время как с подружками они разговаривают. Вот стесняться, вот такого у них нету. Не знаю, из-за чего это». Говорили также, что молодежь «горлопанит», позволяет себе спорить со статусными фигурами в селе.
ГУБДЕН, КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН
В то же время в направлении размывания поколенческих иерархий, по идее, должны были бы действовать и другие факторы — такие как массовое знакомство молодежи с образом жизни в других российских регионах, а также за рубежом, связанное с работой дальнобойщиками, или наличие сельских диаспор в городах, на которые так или иначе воздействовала более гетерогенная и либеральная городская среда. Однако в ходе исследования выявить их влияние не удалось, хотя такие попытки и предпринимались.
ТУХЧАР И НОВОТУХЧАР, НОВОЛАКСКИЙ РАЙОН
«Запасным оружием» при несогласии родителей на брак было похищение невесты по предварительному согласию: «Например, у нас один аварец, девочка тоже аварка была, похитил... Ну, она с Махачкалы была, он там работал. Встречались, полюбили, родители чуть-чуть не хотели, и он ее похитил. Потом они помирились»; «Они хотели быстренько дом построить в этом году и [после этого] поженить [сына]. Родители не против были [его выбора невесты]. Но мальчик поспешил. Ему 22 года... Так что все согласились, куда денутся».
Молодые семьи, по-видимому, сохраняли автономию от старших в распоряжении своим бюджетом: «У нас, если поженились, то где-то через месяц, пусть они и в одном дворе будут, их отделяют. Стараются так: заработали [молодые] — уже ихнее, распоряжаются тоже они сами». С другой стороны, малое распространение разводов некоторые информанты объясняли тем, что старшие родственники активно помогали молодым выстроить отношения в первое время после свадьбы, даже если молодые жили отдельно: «Стараются все сохранить вначале, там старшие тоже регулируют, а потом уже пошлó [без участия старших]».