«У нас есть император»
Фрагмент сочинения Сергея Татищева о внешней политике Николая I
Русский историк, журналист и дипломат Сергей Спиридонович Татищев, живший во второй половине XIX века, написал несколько работ, посвященных отношениям Николая I и его «коллег» по «Священному союзу», стоявшему на страже абсолютистских традиций в Западной и Центральной Европе в первой половине столетия. Предлагаем ознакомиться с фрагментом сочинения «Император Николай I и австрийский двор».
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Сергей Татищев. Император Николай I и «Священный союз». СПб.: Евразия, 2025. Содержание
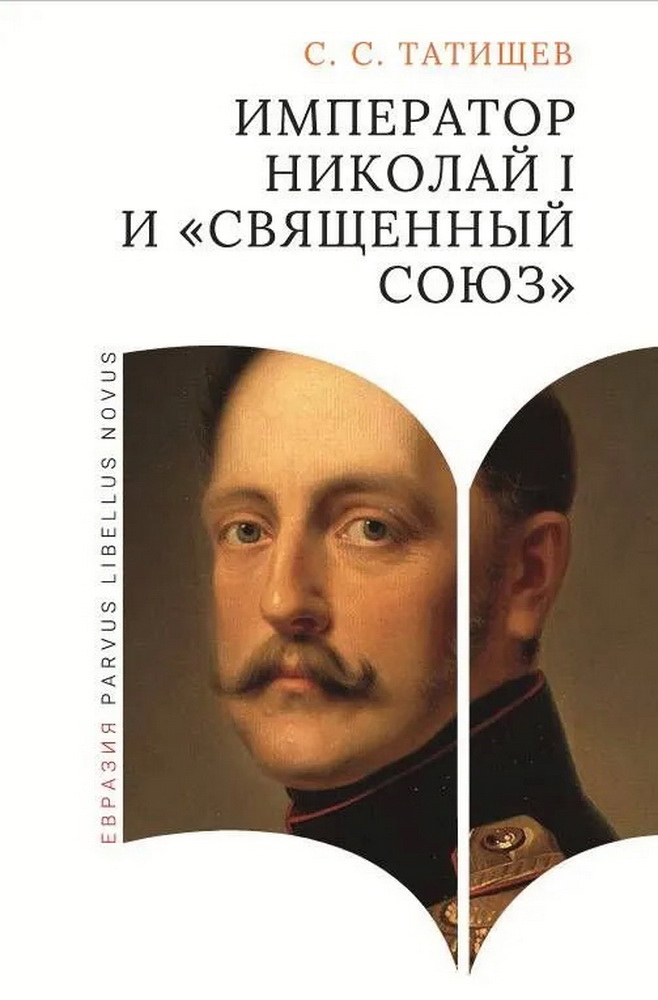
Весть о кончине Александра Благословенного неожиданностью своей одинаково поразила Россию и Европу.
В ночь с 1 (13) на 2 (14) декабря 1825 года князь Меттерних получил отправленный с нарочным пакет от австрийского консула в Варшаве. На пакете была трижды повторена надпись: в е с ь м а н у ж н о е. В нем заключалось известие о смерти императора Всероссийского, последовавшей 19 ноября (1 декабря) в Таганроге, после непродолжительной болезни. Далее сообщалось, что известие пришло в Варшаву 26 ноября (8 декабря) вечером; что оно вызвало там всеобщее уныние; что никто не смеет говорить о нем вслух и что цесаревич Константин Павлович не выходит из дворца.
Нежданная весть возбудила в Вене более тревоги и беспокойства, чем печали. Об императоре Александре не жалели, ожидая всяких благ от его наследника. В цесаревиче Меттерних признавал много ума, прямодушия и благородства и самые правильные политические взгляды и убеждения. Он допускал, что в юности своей великий князь Константин проявлял чрезмерную пылкость характера, но находил, что с годами в нем произошла значительная перемена к лучшему, благодаря в особенности влиянию княгини Лович, морганатической супруги его высочества. «Политика его, — пророчествовал австрийский канцлер, — будет положительно миролюбива. Ум свой он направит к двум главным целям: в политике — к поддержанию монархического начала, в администрации — к улучшению внутреннего состояния империи. Я очень ошибаюсь, или история России начнется там, где ныне окончился роман». Оптимизм свой Меттерних основывал на уверенности в том, что цесаревич «глубоко предан» одной только Австрии, ненавидит англичан, презирает французов и самую Пруссию считает зараженной революционным духом.
Но в Европе давно уже носились слухи о нежелании Константина наследовать престол, о намерении его отречься, и в таком случае преемником Александра являлся второй брат его, великий князь Николай. Венский двор недоумевал, чего следовало ему ожидать от молодого великого князя и чего опасаться. Впрочем, в отзывах о нем проглядывало некоторое предвзятое нерасположение и недоверие. В Вене осуждали страсть его к военным упражнениям, чрезмерную строгость, будто бы вызывавшую нелюбовь к нему в войске. Удаление его от политики объясняли недостатком таланта и склонности к занятию государственными делами. Сомневались даже в правильности его политических воззрений, предполагая, что он подчиняется влиянию либерального кружка, приютившегося при берлинском дворе под покровительством двух принцесс королевского дома, — кружка, среди которого росла и воспитывалась великая княгиня Александра Фёдоровна. Даже непогрешимый Меттерних не брал на себя предсказывать последствия воцарения великого князя Николая. Но кто бы ни был преемником Александра, кончину этого государя он признавал «событием необъятным в своих необходимых последствиях». «Новая эра начинается, — восклицал он, — ум мой перенесся в нее и живет в ней».
Из слов этих легко заключить, с каким напряженным вниманием следили в Вене за всеми фазисами великодушной борьбы августейших братьев, уступавших один другому российский императорский престол. Долго надеялись там на окончание ее в пользу цесаревича. Известно было, что армия и весь народ, побуждаемые примером великого князя Николая, принесли императору Константину присягу на верность подданства. Однако местный наш посол не торопился приведением к присяге чинов посольства и русских, находившихся в австрийской столице. Он даже приостановил богослужение в посольской церкви, в неведении об имени государя, подлежащем возглашению на ектениях. Это, впрочем, не мешало ему поддерживать в Меттернихе надежду на перемену в намерениях цесаревича, который отказом своим хотел лишь испытать настроение русского общества и народа.
25 декабря (6 января) узнали в Вене о вступлении на престол императора Николая и о беспорядках в Петербурге, сопровождавших это событие. Последнее обстоятельство заставило Меттерниха изменить свое мнение о личности молодого государя, и воцарение его он приветствовал с радостью. «Достойная сожаления борьба окончена, — писал он, — и у нас есть император. Поздравляю с ним Россию и Европу». Австрийскому канцлеру очень понравился манифест, возвещавший о воцарении великого князя: он назвал этот акт «памятником мудрости и мира». Не менее благоприятное впечатление произвел на него циркуляр, в котором граф Нессельроде известил пребывающих в Петербурге представителей иностранных дворов о твердом намерении нового государя строго придерживаться охранительных начал, установленных его предшественником и в продолжение десяти лет обеспечивших мир Европы. Независимо от того, русскому послу в Вене было предписано объявить князю Меттерниху, что его величество ничего столь не желает как упрочения тесных уз, столь уже давно соединяющих оба императорских двора.
Меттерних спешил снискать расположение императора Николая, расточая ему похвалу и уверения в политическом единомыслии. «Приятно видеть, — писал канцлер австрийскому представителю при нашем дворе, — могущественного государя, вступающего так спокойно и с такими правильными основными началами на трудную стезю, предопределенную ему Провидением». Упомянув об энергии и решимости, проявленных государем в самый день восшествия на престол, Меттерних замечал, что «подобное событие и поведение такого рода равносильны нескольким годам царствования». Возмущение 14 (26) декабря он называл делом немаловажным и находил, что ответственность за него падает главным образом «на двух братьев, Александра и Константина, которые, не умея найти совета в самих себе, должны были бы обратиться за ним к людям, способным устроить великое и важное дело способом, указанным самым простым государственным смыслом». Под такими людьми австрийский министр, очевидно, подразумевал самого себя. Возвращаясь к происшествиям 14 (26) декабря, он выражал надежду, что следствие раскроет главных руководителей бунта и что «лица во фраке», о которых упоминал в своем циркуляре граф Нессельроде, наведут правительство на следы революционных влияний. Для борьбы с ними Россия не может обойтись без австрийской помощи. В доказательство канцлер еще ранее ссылался на либеральные газеты, постоянно связывавшие-де его собственное имя с именем императора Александра. «Либералы, — утверждал он, — предупреждают таким образом его преемника, чтобы он не отделялся от человека, умевшего бороться с ними, ибо я сильно сомневаюсь, чтобы русский император мог когда-либо стать добрым республиканцем. Если бедный Александр не совершил бы грехов в своей молодости, а в зрелом возрасте ему не недоставало бы „кое-чего“, как говорил о нем Наполеон, то что сталось бы ныне с современным либерализмом?»
В таком именно смысле даны были наставления эрцгерцогу Фердинанду д’Эсте, отправленному в Петербург присутствовать при погребении императора Александра и приветствовать молодого государя со вступлением на престол. Он был, сверх того, снабжен пространным изложением воззрений венского двора на восточные замешательства, на тот конец, если бы император Николай обратился к нему за советом по этому насущному вопросу. Эрцгерцогу был оказан у нас почетный и радушный прием. Он был введен в тесный семейный кружок, собиравшийся вокруг молодой императрицы. Государь самым положительным образом уверил его, что по отношению к Западу намерен следовать политике своего предшественника, считая себя связанным принятыми им обязательствами; что он останется верен охранительным началам Священного союза и будет в особенности поддерживать дружбу с Австрией. Но при этом не было и речи о совещаниях, как по внутренним делам, так и по Восточному вопросу. И то и другое государь считал своим, домашним, русским делом, вмешательства в которое он не допускал даже со стороны ближайших своих союзников. От внимания лиц, сопровождавших эрцгерцога, не скрылось также, что, постоянно выражая самые дружественные чувства к императору Францу, молодой император совершенно умалчивал о Меттернихе. Им скоро стало известно, что государь питает личное нерасположение к этому министру, которого он считал главной причиной неискреннего и даже прямо враждебного нам поведения венского двора в переговорах по восточным делам, происходивших в последние годы Александровского царствования.
Об этом не замедлил узнать и сам Меттерних, которого такое известие крайне встревожило. Пользуясь продолжительным пребыванием в России принца Гессен-Гомбургского, австрийского чрезвычайного посла на коронации государя, канцлер поручал ему при удобном случае выяснить недоразумение. «Император Николай, — писал он принцу, — обладает сильным характером, прозорлив, принципы его безупречны и лично он вполне доверяет императору, нашему повелителю». «Но, — оговаривался Меттерних, — относительно меня он питает выдающееся недоверие», и старался объяснить это тем, что «император Николай одинок, и еще не встретил человека, который послужил бы ему опорой столь полезной для всякого государя, как и вообще для всякого делового человека, в качестве твердого и верного исполнителя его воли». Нерасположение русского императора Меттерних приписывал проискам некоторых из русских дипломатов, преимущественно Поццо ди Борго и Ливена. «Неприятное обстоятельство, — рассуждал он, — много способствовало враждебному настроению молодого государя относительно меня. Когда перешло к нему по наследству это восточное дело, которое столь печальным образом ведет русский двор в продолжение более пяти лет, государственным людям, занимавшимся означенным делом до того времени, представилась необходимость взвалить ответственность за свои ошибки на иностранную державу, враждебную России. Так и случилось. Но в подобном положении всегда представляется враждебной именно та держава, которая была права с самого начала. Держава эта я, как вполне доказано ныне. Лишь только император вступил на путь, издавна указанный мной, как тот, по коему нужно идти неуклонно, он достигнул результата, которого не желал ни один из прежних советников императора Александра. Но в ту самую минуту, когда новый император громко выразил свои намерения, презренная партия, желавшая ввести его в заблуждение, принялась взыскивать новые средства, и средства эти были тотчас же предложены Англией. Такова в действительности история настоящего времени… Мы дожили ныне, — заключал Меттерних, — до торжественной минуты, которая решит все. Мы увидим, согласится или нет Россия с Англией, для содействия делу революций. Мои личные отношения к русскому двору тесно связаны с решением этого вопроса».
Как видно, дело уже шло не о личных только, а о политических отношениях. Человеку «слова», Меттерниху, не по сердцу приходилась политика «дела», сразу усвоенная императором Николаем по отношению к Восточному вопросу. Она пугала его своим неизбежным последствием — упрочением преобладающего положения России на Востоке. С.-Петербургский протокол, Аккерманская конвенция, Лондонский трактат, деятельное вмешательство трех союзных держав в греко-турецкую распрю, наконец, Наваринский бой представлялись ему событиями чудовищными, ниспровержением основ великого охранительного союза, торжеством революционных начал. Не в одной только слабости обвинял он своего так долго покорного друга и наперсника, русского вице-канцлера. Мысли и слова Нессельроде он сравнивал со словами и мыслями Карно, Дантона и их последователей, «которые, — писал он в докладе императору Францу, — тем не менее были раздавлены старыми и докучливыми принципами, и то же случится с графом Нессельроде и его родомонтадами. Весь вопрос в том: сколько вещей погибнут прежде него и слабых его сообщников?»
Отношения между дворами с.-петербургским и венским охлаждались с каждым днем и скоро дошли до состояния крайнего напряжения. Отказ последнего приступить к трактату по греческим делам, о котором велись в Лондоне переговоры между Россией, Англией и Францией, побудил нас прямо заявить ему, что в делах этих взгляд наш совершенно противоположен австрийскому. По мере того, как положение усложнялось на Востоке, и война между нами и Портой становилась все более и более неизбежной, сам император Франц находил, что задача Австрии состоит в том, чтобы заставить Англию и Францию удержать Россию, а турок склонить к сближению с морскими державами. Только благодаря полному своему бессилию, венский двор не стал открыто на сторону Порты по объявлении нами войны. Зато, как только не вполне удовлетворительный исход кампании 1828 года поколебал веру в наш успех, все старания свои Меттерних направил к тому, чтобы побудить великие державы вмешаться сообща в нашу распрю с султаном и явиться посредницами и поручительницами будущего мира между Россией и Турцией. Коварный умысел этот не только не удался австрийскому министру, но был разоблачен бдительным Поццо ди Борго, состоявшим послом нашим при тюильрийском дворе, и вызвал с нашей стороны категорическое требование объяснений. Венский двор ограничился простым отрицанием своих попыток возбудить против нас общеевропейскую коалицию и этим как бы напросился сам на едкий, но вполне заслуженный ответ императорского кабинета. Сообщив нашему представителю в Вене, что австрийский посол от имени канцлера самым формальным образом отрицает существование этого проекта и громко порицает его, «для государя достаточно, — писал Нессельроде Татищеву, — что Австрия сама столь несомненно признала его несвоевременность и выразила убеждение, что ни в каком случае он не будет допущен Россией, а потому его величество не даст этому делу дальнейшего хода».
В начале 1829 года, убедившись в бесплодности своих усилий найти союзницу против России в какой-либо из великих держав, венский двор снова попытался сблизиться с нами и путем дружеского соглашения остановить столь страшное ему распространение нашего влияния на Востоке, или, — как выражался Меттерних, — «возвращение нашей политики к стремлениям русских государей XVIII века». Наставления в этом смысле получил вновь назначенный послом в Петербурге граф Фикельмон, один из способнейших австрийских дипломатов того времени. В том же направлении действовал по собственному побуждению и наш представитель в Вене Татищев. Но в Петербурге имели слишком много несомненных доказательств враждебных нам действий Австрии, чтобы сразу поверить искренности ее желания примириться с нами. «Поведение, которого Австрия сочла нужным придерживаться с самого начала войны, — жаловался вице-канцлер в депеше к Татищеву, — не только не сокращало, но должно было необходимо поощрять сопротивление султана; нейтралитет ее не всегда был беспристрастен; она, очевидно, желала успеха Турции; ее газеты отрицали наши победы и преувеличивали некоторые незначительные неудачи, понесенные нами. Присовокупите к этим косвенным, направленным против нас мерам вооружения столь несвоевременные в виду обстоятельств, при которых они произошли, и станет понятно, что Порта часто предавалась самым опасным иллюзиям, провидя в распоряжениях Австрии шансы могущественной диверсии». Впрочем, главным предметом обвинения продолжали служить происки Меттерниха против нас в Лондоне, Париже и Берлине. Первым условием нашего примирения с Австрией мы ставили отказ ее от «жалкой» политики, которой она следовала до тех пор.
Адрианопольский мир и важные преимущества, обеспеченные им за Россией, так встревожили Меттерниха, что он снова попытался, возбудив против нас Англию, воздвигнуть в союзе с ней преграды нашим успехам в Турции. Но напрасно заискивал он в Веллингтоне, напрасно силился застращать его. Лондонский двор ограничился протестом на словах против условий договора, наиболее ему неприятных. В греческом деле он даже тщательно соблюдал наружное согласие с Россией и дружественной ей Францией. Меттерних понял, что пока существует Тройственный союз, тщетны будут старания его завлечь Англию в свои сети и восстановить ее против России. Разочаровавшись в герцоге Веллингтоне, он с усердием принялся за обращение русского двора на старый путь охранительной политики, во имя опасности, грозящей спокойствию Европы от революции. Поздравляя русского государя с заключением мира, император Франц в собственноручном письме выражал опасение, как бы ослабление союзных связей между великими державами не поощрило революционеров к новым преступным предприятиям. Наш двор не остался в долгу и отвечал на этот упрек, что вина в том падает на австрийское правительство, поступками своими систематически подкапывавшее самые основы союза.
Несмотря на это, Фикельмон доносил из Петербурга, что при известном уменье нетрудно будет восстановить прежний Священный союз, а Меттерних замечал, что для этого достаточно доброй воли императора Николая. Оставалось выждать удобного повода для возобновления переговоров по этому предмету. Такой повод не замедлил представиться. То была Июльская революция, ниспровергнувшая престол старшей ветви дома Бурбонов во Франции.