У каждого своя языковая идеология
Из книги Мэтью Энгельке «Думай как антрополог»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Мэтью Энгельке. Думай как антрополог. М.: Ад Маргинем Пресс, точка, 2024. Перевод с английского Армена Арамяна, Константина Митрошенкова. Содержание
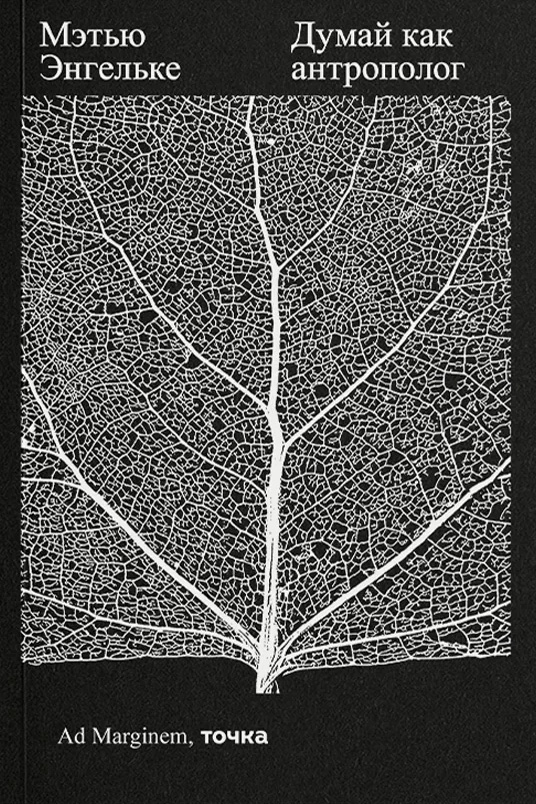 Языковая идеология
Языковая идеология
Язык и культура часто мыслятся как две стороны одной медали. Считается, что язык, подобно крови, отражает суть характера и является такой же составной частью идентичности, как нос на нашем лице. Родной язык; материнское молоко; кровь: образный ряд очевиден.
Из четырех направлений антропологии наиболее тесным образом связаны социокультурное и лингвистическое. Это имеет практический смысл, особенно с точки зрения социальной и культурной антропологии. Можно проводить полевые исследования в Лондоне или Лагосе, не прибегая к данным палеонтологии или радиоуглеродному датированию черепков. Но игнорировать язык невозможно.
Лингвистическая антропология необязательно предполагает работу в поле или особое внимание к используемому языку. То, что можно узнать, изучая грамматику, синтаксис или, скажем, сравнительное структурирование классов существительных в языках банту теоретически, то есть из текстовых источников и летописей, ценно само по себе, но это также указывает на нечто, отличное от изучения языка в повседневной жизни. Иногда это трактуют как различие между вниманием к langue (языку) и parole (речи) — эти понятия ввел Соссюр (сам он делал акцент на langue). Однако в большинстве работ по лингвистической антропологии внимание акцентируется на практической речи — parole. Эту область исследований иногда называют социолингвистикой или, шире, прагматикой. В этой традиции один из вопросов, интересующих исследователей, заключается в том, как сами носители языка понимают его культурную ценность.
За последние сорок лет самые актуальные исследования в социолингвистике связаны с тем, что специалисты называют «языковой идеологией» (или «лингвистической идеологией»). Я хочу остановиться на этом вопросе, потому что он может оказаться очень полезным для понимания исследовательских подходов к культурной идентичности. Безусловно, говоря общо, если мы поймем суть языковой идеологии, мы проникнем и в суть того, как работает культура.
У каждого из нас есть своя языковая идеология. Мы можем об этом не знать или не задумываться, но это так. В сущности, это означает, что все мы строим определенные догадки или придерживаемся определенных представлений о структуре, значении и употреблении языка. Наши языковые идеологии показывают, как мы понимаем ход событий, природу власти, какие ценности для нас важны и даже что мы считаем реальностью.
Типичным примером языковой идеологии в действии можно считать то, что я уже несколько раз сделал в этой книге, а именно привел определения слов из Оксфордского словаря английского языка. О чем это говорит? О том, что я думаю — или, возможно, думаю, что вы думаете, — что словарные определения дают нам подлинные значения слов. Это, в свою очередь, говорит о том, что я или вы, а может быть, мы предполагаем, что истина или реальность подтверждается текстовыми источниками, созданными экспертами. Я никогда бы не написал: «Как однажды сказала мне моя мама, идентичность означает свойство или состояние тождественности самому себе по существу», — если бы не ожидал, что вы сочтете это определение, скажем так, авторитетным. В таких ситуациях мы доверяем книгам и экспертам (особенно если они из издательства Oxford University Press), а не «простым смертным», даже матерям.
Другой типичный пример, связанный с языковой идеологией, который тоже есть в этой книге, — обращение к этимологии слова. Изначально слово savage («дикарь»), заимствованное из латыни, означало... Нечто близкое к этому я писал во второй главе. О чем это нам говорит? О том, что я думаю или, возможно, думаю, что вы думаете, что подлинное значение слова также связано с его изначальным употреблением. И часто в слове, которое я употребляю, слышится забытый смысл его первоначальной формы. Например, слово «религия»: оно образовано от латинского religare («связывать») и religio («святыня/благочестие»). О да! Религия есть некая общность — и связь между людьми и Божественным! — а также, да, святыня. Вот, собственно, и все. На Западе латынь и греческий имеют особый статус (что, в свою очередь, говорит о высочайшей ценности Античности). Это предполагает и то, что метафизика смысла сохраняется в нашем коллективном сознании. Рьяным атеистам не стоит обманываться, будто только католические епископы усматривают в браке «истинный смысл».
Есть множество и других примеров. Один из моих любимых примеров связан с атеистом Тимом Минчином — комиком, композитором и музыкантом. Он из тех атеистов, для кого неверие — повод действовать, он не из тех, кто руководствуется принципом «живи и дай жить другим». Чтобы доказать, что в мире нет ничего сверхъестественного и мистического, однажды на литературном фестивале он заявил перед толпой своих поклонников: «Я надеюсь, что завтра моя дочь погибнет в автокатастрофе». Все затаили дыхание. Своими словами Минчин указал на некоторые особенности англоязычной идеологии. Во-первых, наша речь должна быть искренней; мы, естественно, считаем, что язык служит средством для передачи истины. «Говори то, что думаешь, и думай о том, что говоришь». Это не то, что он пытался донести, но он это сделал невольно. Мысль же, которую он хотел донести, связана со вторым постулатом нашей языковой идеологии, а именно с тем, что наша речь может материально воздействовать не только на окружающих, но и на ход событий. «Если не можешь сказать ничего хорошего, лучше промолчи». Вот почему мы приговариваем «постучи по дереву» или сами притрагиваемся к чему-то деревянному, когда говорим о чем-то, боясь, что это не случится. «Он получит эту работу! Постучи по дереву». Мало кто знает, откуда пошло это «постучи по дереву», но в нашем случае это и неважно: важно выражение, похожее на заклинание, и «магический» эффект. И это именно то, чему бросил вызов пламенный атеист. Шокировав своих поклонников, Минчин попытался вывести их из ступора, вызванного суевериями и лингвистическими идеологемами. Он пытался убедить их в том, что а) нет никакой сверхъестественной силы, которая подслушивает и просто ждет, когда мы скажем что-нибудь опрометчиво; и б) подобные изречения никоим образом не влияют на дальнейший ход событий. (Поэтому и молитву ретивые атеисты считают бессмысленной.)
В течение последних двадцати лет лингвистическая антропология внесла существенный вклад в картографирование ландшафта языковых идеологий на макроуровне в современных западных обществах. Если в двух словах, то они утверждают, что сегодня на Западе мы обнаруживаем два основных ее типа: идеологию аутентичности и идеологию анонимности. Хотя в некоторых отношениях они отличаются друг от друга, объединяет их то, что в своем последнем крупном исследовании языковой идеологии и политики идентичности в Каталонии Кэтрин Вулард назвала социолингвистическим натурализмом. Более подробно я остановлюсь на этом исследовании в следующем разделе, а пока рассмотрим основные аргументы Вулард.
Идеология аутентичности связана со многим, о чем мы уже говорили в этой главе. Она основывается на эссенциализме и предполагает, что наш язык выражает некую неотъемлемую часть нас самих как индивидуальных и социальных существ. «Основное назначение аутентичного голоса — сигнализировать о том, кто говорит, а не о том, что он должен сказать». В популярной культуре это нашло отражение в известных стереотипах: бравого француза, чья бравада неотделима от медоточивых пустых любезностей. Томной русской поэтессы, чья томность и умение запечатлеть в словах зимний солнечный свет неотделимы от ее поэзии. Но стремление подчеркнуть свою аутентичность часто исходит и от тех, кто находится в положении меньшинства. Оно, в частности, было важнейшей составляющей националистических движений в Квебеке и Бретани. Оно также распространено в общинах меньшинств, проживающих в бедных городских районах. Принадлежность к определенному сословию, выражающаяся в особенностях речи и произношения, тоже может определять идентичность. Во всех подобных случаях регистр языка указывает на локальную идентичность, тесно связанную с определенным местом обитания и, как правило, выражающую характер или эмоциональность ее представителей. Мы видим это и в лондонском акценте кокни, и в особенностях нью-йоркского рэпа или рэпа Западного побережья, и в своеобразии сленга Cоуэто. Как и следовало ожидать, такой аутентичности невозможно научиться. Она либо есть, либо ее нет. Тем не менее это не мешает некоторым людям пытаться «стать своим» или «сойти за своего» в определенной части общества. Ведущие политики из-за этого нередко попадают в неловкое положение. Тони Блэра высмеивали на всем протяжении его политической карьеры именно за его привычку соскальзывать с оксфордской чопорной речи Вестминстерского пузыря на «земной», реальный, рабочий «эстуарный английский». В этих случаях он пытался говорить как парень из Базилдона, чем еще больше раздражал людей.
Идеология анонимности — это то, что стоит за легитимностью доминирующих языков. Английский — наиболее распространенный из таковых. Большей частью от них ожидают не приспособления к определенному месту, а, напротив, выхода за его пределы — это языки, на которых говорят везде и нигде. Носители английского, этого глобального лингва франка, и прежде всего англичане, вынуждены отказываться от претензий на аутентичность в силу его всемирно признанной ценности. Правда, многие, особенно американцы, обожают хорошее английское произношение. Но те же самые американцы-англофилы ни за что не согласятся с тем, что у них меньше прав на английский, чем у Хью Гранта или даже королевы Елизаветы II. Эта идеология исключительно важна для нормального функционирования публичной сферы. Речь здесь идет не только о глобальных языках вроде английского или испанского, но и о том, как функционирует любой доминирующий язык на политической арене, включающей в себя разные группы или сообщества. Хороший пример — индонезийский язык, который был сконструирован с целью создать общую языковую среду для островного государства, где говорят на более чем трехстах языках.
Как видим, идеологии аутентичности и анонимности часто применимы к одному и тому же языку; различия зависят от степени удаленности или локального контекста. Если вы из Базилдона, графство Эссекс, то вас вполне может раздражать Тони Блэр, когда он пытается говорить так, будто вырос по соседству с вами; и в то же время вы можете одобрять употребление английского языка в качества лингва франка в ООН, поскольку признаете, что этот язык принадлежит всем в равной степени. Действительно, если бы генеральный секретарь ООН выступил перед международной или глобальной аудиторией на португальском, корейском или аканском языках, это расценили бы как попытку раскола или дискриминации.
В основе обеих идеологий лежит то, что Вулард называет социолингвистическим натурализмом. Это подразумевает, что рассматриваемая идеология естественна (natural). Задана. Просто такова, как есть. Иначе говоря, влияние аутентичности и анонимности не рассматривается как следствие человеческих решений, политических технологий или экономической ситуации.
От народа к перформансу
Если в период с 1930-х по 1960-е годы наблюдался поворот к идентичности, то в последующие годы произошли перемены иного характера. Что касается исследований, антропологи по-прежнему чаще сталкиваются с ожиданиями или предположениями, что культурная идентичность такова, как она есть, и ее невозможно изменить. Сохраняется и высокий спрос на экзотику; масаи, как и прежде, могут подрабатывать в сафари-лагерях, танцуя для британских туристов.
Однако в начале XXI века активно набирает обороты и признание более перформативный подход к идентичности. Это очевидно не только в виртуальных мирах аватаров во «Второй жизни», но и там, где мы меньше всего ожидали его обнаружить, — в европейских националистических движениях.
У национализма в Европе не всегда хорошая репутация. За редкими исключениями националистические движения находятся на правом, а зачастую крайне правом крыле политического спектра: таковы партия «Йоббик» в Венгрии, Национальный фронт во Франции или Британская национальная партия. Такого рода партии паразитируют на ксенофобских настроениях, иногда открыто, иногда прибегая к тактике «собачьего свистка». Они трактуют идентичность в духе ХХ века и тезиса о том, что «кровь не утаишь», а их представление о языке и применение его основываются на идеологии аутентичности и социолингвистического натурализма. Британская национальная партия вдобавок применяет имперский язык в обратном порядке: в одной из публикаций на их сайте утверждается, что Тауэр-Хамлетс «колонизирован» мигрантами из стран третьего мира, а «коренное население» вытеснено.
Каталония — другой случай. В 1978 году, после падения диктатуры Франсиско Франко, была принята новая конституция Испании. Каталония стала одним из семнадцати «автономных сообществ», обладающих значительной властью и высокой степенью самоуправления. По численности населения Каталония — крупнейшее автономное сообщество Испании. А кроме того, и самое богатое. Региональный язык, каталанский, отличается от испанского (или кастильского, как его обычно называют в Испании); это не диалект испанского, как иногда думают. Вплоть до 1980-х годов авторитет каталанского языка опирался на ту самую идеологию аутентичности, что описана нами выше. Считалось, что каталонцами рождаются, а не становятся. Однако со временем ситуация изменилась, и упор на локальную укорененность и «родной язык» уступил место гораздо более гибкому пониманию принадлежности и идентичности, согласно которому аутентичность может быть не только дана, но и создана.
Вулард начала изучать каталонскую политику идентичности в 1979 году, на заре постфранкистской эпохи. Трудно представить лучшее время и место для полевого исследования по лингвистической антропологии. У каталанского языка крупная и стабильная база носителей; к тому же он сыграл ключевую роль в политической деятельности активистов, отстаивавших самобытность Каталонии. Более того, поскольку экономика Каталонии довольно сильна по сравнению с другими регионами Испании, то и местный язык, и идентичность обладают определенно высоким престижем. Однако носители каталанского языка составляют меньшинство не только в масштабе Испании, но и в самом автономном сообществе, около трех четвертей жителей которого — мигранты, приехавшие после 1900 года. Даже сегодня каталанский язык считают своим родным языком менее трети населения; 55 % жителей — это носители кастильского языка.
С первых дней обретенной автономии правительство Каталонии стало проводить языковую политику, направленную на укрепление ярко выраженной национальной идентичности. Главное внимание уделялось системе образования. В 1980-е годы от школ все настойчивее стали требовать проводить занятия на каталанском языке — сначала в качестве факультативного, а потом, в конце концов, и основного. В начале 2000-х бо́льшая часть школьной программы преподавалась на каталанском языке.
Учитывая важность образовательной политики для того, что Вулард называет «проектной идентичностью» Каталонии, неудивительно, что значительную часть своего полевого исследования она провела в школах. В 1987 году Вулард изучала выпускной класс в средней школе, которая считалась прокаталонски ориентированной. В школе учились как выходцы из семей, говоривших на каталанском, так и носители кастильского языка, которые большей частью были детьми или внуками мигрантов-рабочих. То, что обнаружила Вулард, в общем подтверждает наблюдаемое в других средах, где политика идентичности понимается с эссенциалистских позиций. Носители каталанского и кастильского, как правило, подчеркивали свои различия, при этом последние происходили из рабочих семей, не считавшихся местными (даже если они жили в Каталонии уже несколько поколений). В беседах с Вулард подростки признавались, что кастильцы, в отличие от каталонцев, грубые и неотесанные. «Скажем так, тех, кто говорит на кастильском, культурными не назовешь», — подытожил один из них. Хотя это мнение и вызвало оживленный спор, тем не менее оно отчасти подтверждалось явно выраженным у носителей кастильского языка чувством своей изначальной маргинальности, в том числе и среди сверстников. По словам некоторых кастильцев, когда они переходят на каталанский, то испытывают неловкость и стыд, как будто притворяются и на самом деле не имеют права говорить на этом языке.
В 2007 году Вулард удалось отыскать нескольких бывших учеников, с которыми она впервые встретилась в 1980-е. Большинство из тех, для кого родным языком был кастильский и кто когда-то ощущал себя исключенным из «проектной идентичности» националистов, теперь радикально изменили свое отношение. Она обнаружила, что почти все эти уже тридцатилетние мужчины и женщины идентифицировали себя с каталонцами и все с большей уверенностью и даже чувством сопричастности говорили на их языке. Обиды подростковых лет никуда не делись: пережитая ими некогда маргинальность по-прежнему для них значима и реальна. Однако в целом они списали все это на подростковые метания. Кроме того, принятие каталонской идентичности они не обязательно связывали с масштабными политическими проектами или заявлениями; большинство настаивало на том, что это был их личный выбор, и высмеивало ярые националистические проявления. Их подход к идентичности воплощает скорее «модель бытия в категориях и/и, а не или/или».
Вернувшись в Каталонию в 2007 году, Вулард не только встретилась со многими из своих прежних собеседников, она повторила исследование в той же самой школе. Она застала там абсолютно другую картину. Подростковый бунт никуда не исчез, но он уже не связывался с тем, на каком языке говорят в семье. В этот раз школьники, в отличие от своих предшественников в 1987 году, не считали язык конституирующим фактором идентичности; каталанский и кастильский перестали играть роль символов. Когда Вулард спрашивала школьников, с чем они себя идентифицируют, никто не упомянул язык в качестве маркера. Говорили о стилях: в одежде, музыке и других вещах, которые занимают подростков. Иными словами, каталанский язык стал анонимным в том смысле, о котором шла речь выше, — чем-то, что может обрести каждый. Как и идентичность, он открыт для всех, кто готов принять его, причем основным критерием стало стремление к самобытной идентичности. «У нас нет проблем», — снова и снова слышала Вулард.
Вулард осознает, что скрывается за такими трогательными заявлениями; ситуация в Каталонии гораздо сложнее, и от многих местных жителей, говорящих на кастильском языке, мы слышим, что они по-прежнему чувствуют себя не в своей тарелке, чужаками и маргиналами. И это мы еще не касаемся недавних волн миграции в Каталонию из Африки и других частей света. Но сдвиги заметны как в межличностных отношениях на микроуровне, так и на уровне национальной политики. С 2006 по 2010 год президентом Каталонии был выходец из андалузской рабочей семьи; он плохо говорил по-каталански, из-за чего немало зубоскалили. Тем не менее он стал президентом. В 2010 году в Каталонии начало шириться протестное движение с требованием независимости от Испании. В сентябре 2012 года более полутора миллионов человек прошли по улицам Барселоны, настаивая на «праве самостоятельно определять» свое будущее. «Catalunya, nou estat d’Europa» — гласили плакаты, разумеется, на каталанском (что означает «Каталония — новое государство Европы»). Но в этом марше, как и в последующих кампаниях, в первых рядах шли не только исконные каталонцы в обычной националистической экипировке. Рядом с ними были и исконные носители кастильского языка.