«Тварь — творец своего творца»
Из книги Жан-Франсуа Лиотара «Зачем философствовать?»
Hugo Simberg. On the shore, 1910
Осенью 1964 года Жан-Франсуа Лиотар прочитал студентам подготовительных курсов Сорбонны четыре лекции, предлагая поразмышлять над вопросом, зачем сейчас заниматься философией. Предлагаем вашему вниманию отрывок из выступления французского мыслителя.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Жан-Франсуа Лиотар. Зачем философствовать? Четыре лекции, прочитанные студентам подготовительных курсов Сорбонны в октябре-ноябре 1964 года. СПб.: Бартлби и компания, 2025. Перевод с французского Алексея Шестакова и Михаила Шестакова. Содержание
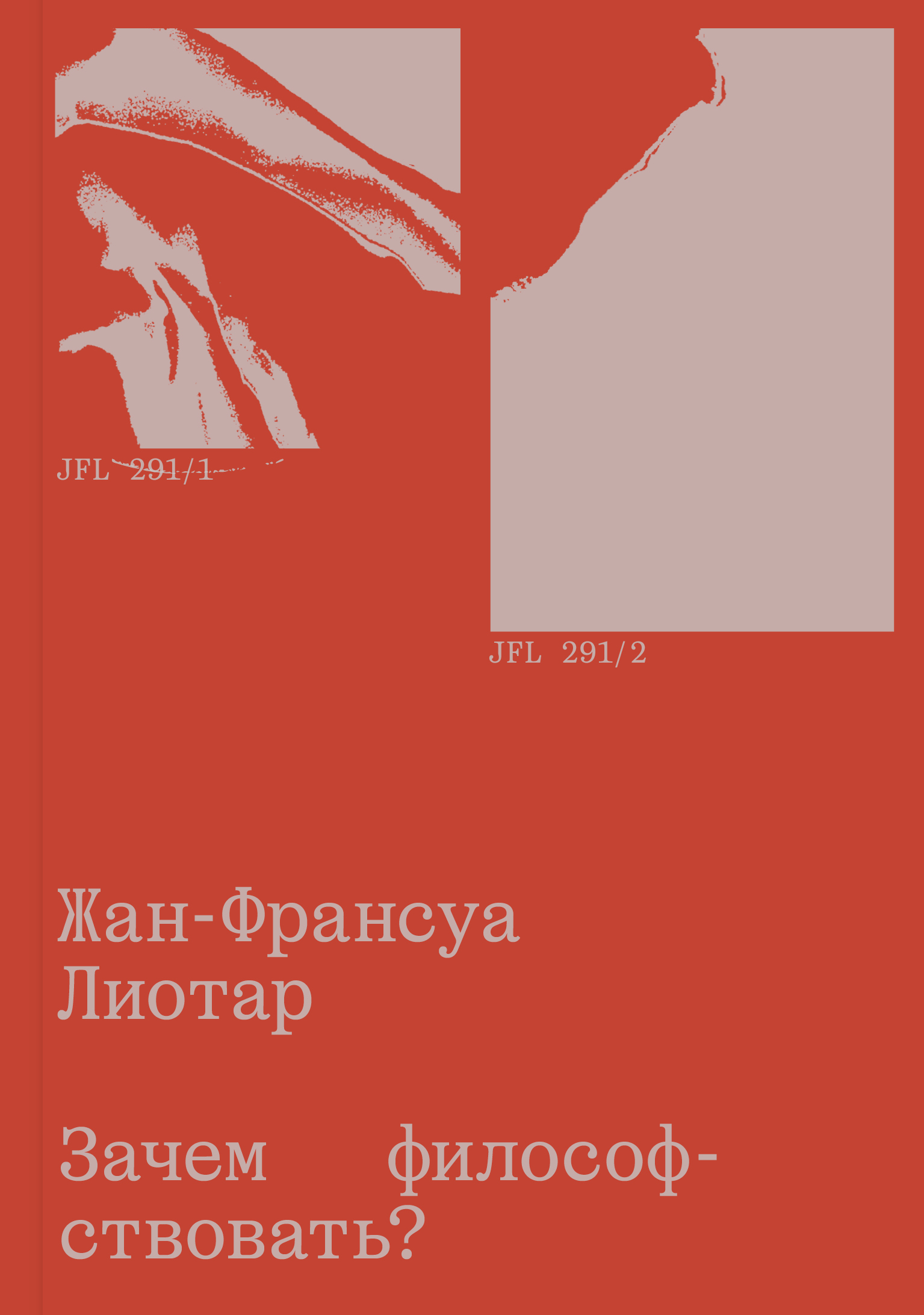
Гегель пишет в ранней работе «Различие философских систем Фихте и Шеллинга» (1801): «Если из жизни людей исчезает сила соединения и противоположности теряют свое живое отношение и взаимодействие и приобретают самостоятельность, то возникает потребность в философии».
Вот более чем ясный ответ на наш вопрос «Зачем философствовать?». Потребность философствовать имеется потому, что мы утратили единство. Начало философии — это потеря единого, смерть смысла.
Но почему единство было утрачено? Почему противоположности стали самостоятельными? Как вышло, что человечество, жившее в единстве, видевшее смысл в мире и в себе самом, как говорит Гегель в том же отрывке, в конечном счете потеряло этот смысл? Что случилось? Где, когда, как, почему?
<…>
Этому вопросу не занимать остроты, но мы не должны дать ей себя запугать. Если бы смысл, λόγος, Одно и впрямь когда-то исчезли полностью, мы даже не знали бы ни того, что единство возможно, ни того, что оно существовало: сама его утрата была бы утрачена и его смерть умерла бы, подобно тому как умерший перестает быть умершим и окончательно исчезает, когда никакие приношения на его могилу уже не делают ее видимой и его образ не сохраняется ни в чьей мысли и жизни, так что само его исчезновение исчезает и он становится никогда не бывшим. Если бы единство, о котором говорят Гегель и Гераклит, вот так, полностью, умерло, мы не могли бы сегодня испытывать в нем недостатка, желания, да и говорить о нем.
А значит, острота нашего вопроса — «Почему смысл, единство были утрачены?» — смягчается, стоит ей встретиться с износостойким материалом. Этот материал — время, которое сохраняет то, что теряется. Поставленный вопрос располагает к историческому ответу или, по крайней мере, к историческому поиску ответа: например, к тому, чтобы выяснить на фактическом материале, что именно произошло в Греции в эпоху вынашивания и рождения философии. Конечно, мы многое узнали бы из такого исследования: не только потому, что нам еще не вполне понятно, с чего началась философия (в историческом смысле — как историки говорят об истоке или истоках Великой французской революции, Первой мировой войны), и оно могло бы открыть нам ее начало, но и потому, что мы не допускаем сомнения, что этот вид деятельности — философствование — стоит в одном ряду и разделяет один удел со всеми остальными, то есть несет на себе печать своего времени и своей культуры, которые одновременно выражает и определяет, — подобно архитектуре, устройству города, политике или музыке, является частью целого, каким был греческий мир: частью, связанной с этим целым взаимной необходимостью.
Но постановка вопроса в такой решительно исторической манере рискует его обеднить. Нужно понять, что, спрашивая «Зачем философствовать?», мы не ставим проблему начала. По двум причинам:
— Во-первых, для нас важно не столько рождение философии, сколько связанная с ее рождением смерть чего-то другого. Возможно, исторически датировать рождение философии нетрудно — например, взяв за точку отсчета момент, к которому относится первое дошедшее до нас слово первого известного нам философа (и допустив, что мы уже знаем, что имеется в виду под словом «философ»). Но куда труднее исторически датировать смерть того, что мы называем здесь смыслом или единством, определить эти смысл или единство — поставить им предел; очень трудно установить момент, когда в обществе — например, в греческом обществе Ионийского союза — институты, регулирующие отношения человека с миром, в достаточной мере и с достаточно ощутимой скоростью приближаются или отдаляются, меняя видимую величину, так что у людей возникает возможность подвергнуть их рефлексии, поднять вопрос об их смысле, спросить себя, почему они делают то, что делают. Не было никакого взятия Бастилии, не было никакой отрубленной головы, которые позволили бы сказать: в этот день смысл был утрачен. Первая значительная потеря, которую историк может записать на счет Греции, — это не потеря единства или смысла, а потеря Сократа, свидетельствующая, наоборот, о том, что Афины не хотели или не могли слышать голос, через который выражалась и нападала на людей и вещи нехватка смысла.
— И во-вторых, что еще важнее, философия сама ручается за то, что, спрашивая «Зачем философствовать?», мы не ставим проблему начала в историческом смысле слова: ручается просто тем, что она обладает историей или даже является историей. Это снова приводит нас к теме времени.
Существует история философии, история желания, влечения к σοφόν, Одному, как говорит Гераклит. Это, несомненно, значит, что существует прерывистая последовательность мыслей или речей, доискивающихся единства: от Декарта до Канта меняются слова и вместе с ними меняются значения, меняется мысль, текущая по словам и удерживающая их вместе. Философ не тот, кто, получив наследство, принимается извлекать из него выгоду. Он всегда прощупывает и подвергает сомнению тот способ постановки вопросов и поиска ответов, который использовали его предшественники и на котором воспитан он сам. Я уже говорил: мы каждый раз начинаем философствовать с нуля, поскольку каждый раз объект нашего желания утрачен. Скажем, послание, которое шлют нам сочинения Платона, мы должны перехватить, расшифровать и зашифровать заново, сделать его неузнаваемым, чтобы, возможно, в итоге суметь распознать в нем то же самое желание единства, которое испытываем сами. То есть в самом факте того, что философия обладает историей, или, вернее, является историей, уже есть философское значение, так как пресечения последовательности, разрывы, которые дробят и ритмизируют философскую рефлексию, расстилая ее во времени (как раз как историю), — они, эти переломы, собственно, и доказывают, что смысл ускользает от нас, что стремление философа собрать крупицы смысла в пустоте осмысленной речи должно всегда возобновляться заново. Гуссерль говорил, что философ — вечный начинающий.
Однако эта прерывистость парадоксальным образом свидетельствует о непрерывности. Труд расцепления и нового сцепления, вершимый одним философом, приходящим вслед за другим, означает как минимум что в них обоих живет одно желание, одна нехватка. Изучая конкретную философию, то есть совокупность слов, которая образует систему или, по крайней мере, значение, мы не только ищем в ней ахиллесову пяту, недоработанную или плохо пригнанную деталь, удар по которой обрушит все здание; даже когда философ критикует платоновское понятие умопостигаемого и приходит к выводу, что оно непостижимо, им едва ли движет некий инстинкт смерти, неудержимое стремление стереть всякие различия, усилить помехи, затрудняющие наше общение с Платоном, потопить его послание в «шуме и ярости истории, рассказанной дураком».
Нет, скорее обратное должно было бы произойти, если бы отношения между философами действительно направлял инстинкт смерти (это выражение, как вы знаете, появляется в работах Фрейда); в самом деле, Фрейд объясняет, что влечение к небытию находит свои выражение и ритм в повторении. Кто и впрямь убивает Платона, все содержание его слов, так это тот, кто отождествляет с Платоном себя, хочет быть Платоном, пытается его повторить.
Философская же критика, выявляя непоследовательность, бессвязность какой-либо системы, пытается обнажить связность более крепкую, сжатую, сильную — более подобающую Одному. Не один философ — тот же Платон, или Кант, или Гуссерль — сам по ходу жизни предпринимал подобную критику, оглядывался на то, что думал раньше, разрушал свою прежнюю мысль и начинал сначала, тем самым доказывая, что истинное единство его труда состоит в желании, вызванном потерей единства, а не в довольстве выстроенной системой, единством обретенным. И что верно для одного философа, верно и для всего ряда философов; царящая в истории, которую образует этот ряд, прерывистость, разноголосица языков, мешанина аргументов приобретают для нас столь несносное, столь удручающее значение ошибочных действий, недоразумений, квипрокво и в конечном счете бессмыслицы не иначе как потому, что все звучащие в этой истории речи свидетельствуют об одном общем, всеми разделяемом желании; и даже сетуя на вавилонское столпотворение философии или смеясь над ним, мы все равно снова и снова питаем надежду на абсолютный язык, чаем единства.
Выходит, единство не утрачено полностью; коль скоро существует история философии, то есть рассеянность, прерывность, присущая речи, что стремится это единство изречь, мы можем быть уверены, что не владеем смыслом; а коль скоро философия есть история и обмен философов разумными доводами и страстями — словом, аргументами — образует протяженную последовательность, причем отнюдь не механическую, ибо в ней кое-что происходит, примерно как в карточной игре или шахматной партии, это доказывает, что лоскутки, выкроенные разными индивидами, культурами, эпохами, классами в ткани философского диалога, несмотря ни на что держатся вместе, что есть-таки непрерывность — непрерывность желания единства. Раскол, о котором говорит Гегель, не прошел — в постоянной, абсолютной актуальности этого раскола, в непрерывной утрате единства только и может развиваться, отличаясь от самой себя, порывая с самою собой, философия. Разделение, случившееся когда-то, — это разделение, происходящее сегодня, и именно потому, что «когда-то» и «сегодня» не разделены, разделение может быть их общей темой. Желание единства удостоверяет отсутствующее единство, но есть единство желания — свидетельство того, что единство присутствует.
Мы спросили себя: «Почему и как единство было утрачено?» Этот вопрос вырос из другого: «Зачем желать?» А тот, в свою очередь, был порожден нашим главным вопросом: «Зачем философствовать?» Сейчас мы, возможно, приблизились к пониманию того, что вопрос утраты единства — не просто исторический вопрос, на который историк мог бы дать исчерпывающий ответ, представив его под заголовком «Истоки философии». В самом деле, мы только что выяснили, что сама история, и в частности история философии (но и любая другая), в самой своей ткани содержит признаки того, что утрата единства, раскол, разлучающий реальность и смысл, является не событием в ней, а ее мотивом. Криминалисты называют мотивом то, что побуждает к действию — убийству, краже. Утрата единства — мотив философии в том смысле, что она побуждает нас философствовать; с утратой единства желание преклоняется к себе [se réfléchit]. Но музыковеды также называют мотивом музыкальную фразу, которая главенствует в пьесе и придает ей мелодическое единство. Таким же образом утрата единства главенствует во всей истории философии и, собственно, делает ее историей.
Поэтому, направив историческую указку на VII или V век до нашей эры, служащий якобы началом философии, мы просто выставили бы себя на посмешище, какого заслуживает любое генетическое объяснение. Ведь оно полагает, что может объяснить сына отцом, последующее — предшествующим, — но забывает о том, казалось бы, пустяке, что как сын происходит от отца — ведь сына без отца быть не может, — так и отцовство отца зависит от существования сына — ведь отца без сына тоже быть не может. Всякая генеалогия должна быть прочитана в обратном порядке (именно так в конце концов стало ясно, что тварь — творец своего творца, что человек создал Господа Бога в той же степени, что и наоборот). Начало философии — сегодня.