Церковь — союз любви или иерархия?
Фрагмент книги «„Духовные вожди“: понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Вячеслав Ячменик. «Духовные вожди»: понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Содержание
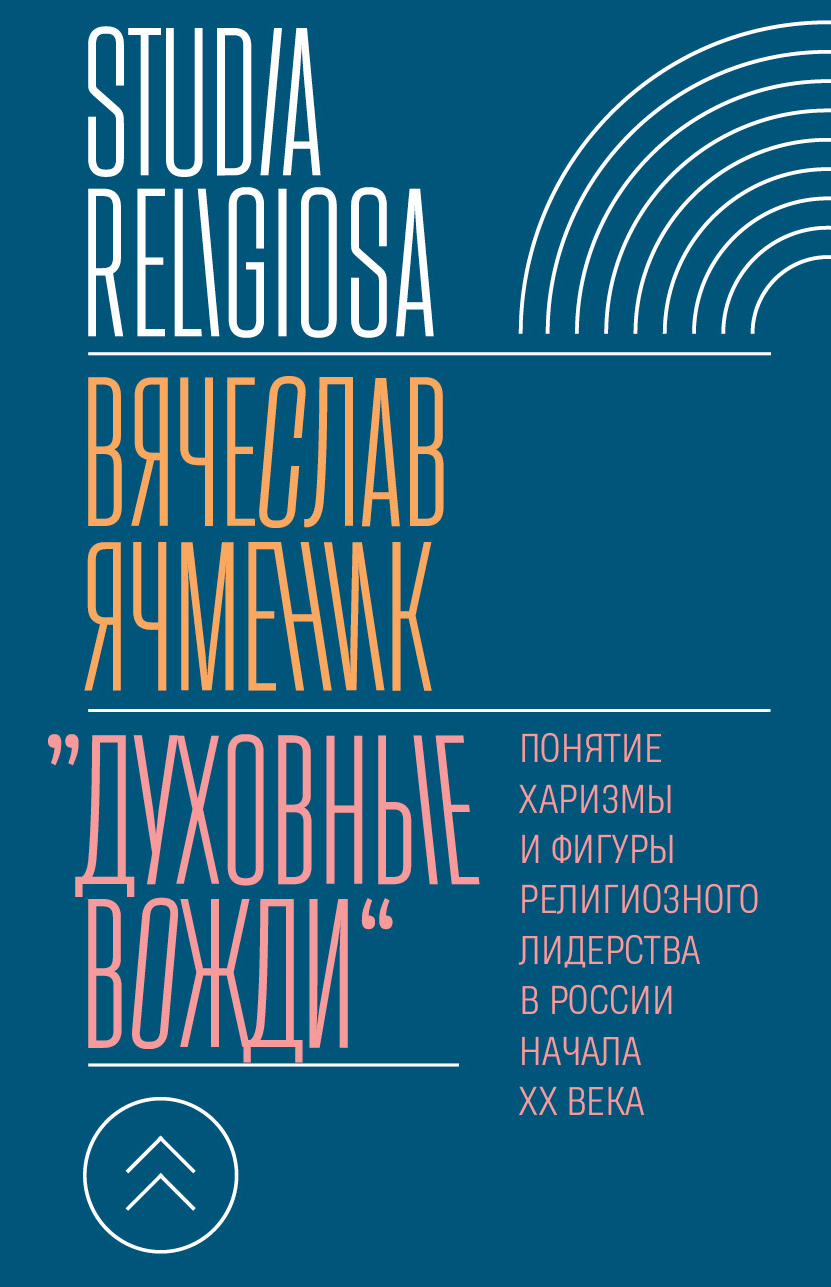
В русской теологии XIX века проблематика церковной власти свое развернутое рассмотрение находит у митр. Филарета (Дроздова). В раннем труде «Начертание церковно-библейской истории» (1816), описывая устройство апостольской церкви, он указывал на ключевое место именно епископата в церковной жизни:
Будучи обществом руководствуемых и руководствующих к вечному спасению, Церковь не могла не иметь подчиненных и начальствующих. Иисус Христос не начертал для нее в слове Своем подробного и единообразного постановления, дабы царство Его не показалось сущим от мира сего: почему мы должны познавать сие постановление более из примера Церкви Апостольской. Она представляла, как и доныне представляет образ верховного единоначалия в Иисусе Христе, управляющем ею посредством Своего откровения и дарований Духа Святого. Сия верховная невидимая власть видимо представлялась для всей Церкви вселенской в Апостолах и Соборах, а для частных Церквей — в Епископах.
По мысли святителя, власть, откровения и дарования (харизмы) относятся к епископам. При этом епископат апостольского века он рассматривает как «постоянную и всем временам церкви свойственную должность», от которой, как он указывает, «отличать должно чрезвычайные дарования и служения, учрежденные Богом преимущественно для первоначального распространения Веры». Важно, что Филарет основывает как временные служения (апостолы, пророки и евангелисты), так и должностные (епископы, пресвитеры и диаконы) на дарованиях Святого Духа, различая их лишь по функции в церкви. Поскольку епископы становятся единственными законными носителями церковной власти, Филарет именно их рассматривает как благодатных учителей церкви.
Позднее к этой идее он неоднократно обращался в речах, адресованных новопоставленным архиереям. Не говоря о харизме епископа, Филарет вместе с тем формулирует основные характеристики этой идеи, опережая проблематику русского богословия начала XX века. В одной из таких речей 1829 года он рассуждает о даре, который дается в рукоположении, и выделяет три ключевых его аспекта:
Святый Апостол говорит о даровании, которое дается с возложением рук священничества и которое живет в человеке, приявшем оное. Как в привитом дереве живет сила, производящая плод по роду и качеству прививка: так и в человеке, которому священным тайнодействием, так сказать, прививается благодатная сила, живет она потом, действует чрез него, и производит благодатный плод по роду и степени, в каком сообщена. Да не испытует неукрощенное любопытство, каким образом при возложении рук… передается духовная сила: но пусть благоговейный ум наблюдает и соображает как… самый не благодатный из Архиереев (потому что произнес осуждение на самую благодать и истину), еще обнаруживает в себе вышнюю пророческую силу, потому только, что он Архиерей: не о себе рече, замечает Святый Евангелист, но Архиерей сый, прорече.
Во-первых, Филарет рассматривает епископа как преемника апостольских дарований, который получает их в рукоположении. Во-вторых, дарование священства есть не только независимая от человека сила Божья, которая действует в епископе, но и зависимая — от отношения к нему носителя этого дара: человек развивает дар священства, соответственно, от его личности зависит реализация этого дара. В-третьих, дар Божий не ставится в полную зависимость от человека, поэтому святитель пишет, что даже в грешном архиерее действует благодать и может обнаружить «внешнюю пророческую силу». В речах Филарета, таким образом, можно найти не только развернутое обоснование власти епископа, но и осмысление ее не как формальной и внешней власти, но именно как мистического феномена, соединяющего личность и должность. Как отмечают исследователи, именно в такой перспективе святитель рассматривал и пастырское служение.
Однако русское богословие рубежа XIX и XX веков ориентировалось не на свт. Филарета, а скорее на наследие А. С. Хомякова (1804–1860). Сложно не согласиться с исследователями в том, что тот антиинституциональный аспект экклезиологии, который был присущ Хомякову и, пожалуй, именно от него получивший развитие в русской религиозной мысли, кажется близок идее «харизматической организации». В этом ракурсе ниже будут рассмотрены тезисы Хомякова и их дальнейшее развитие к началу XX века.
Осмысление проблемы власти в церковном сообществе было во многом связано с развитием известного концепта соборности. Его происхождение, как правило, относят к наследию Хомякова, но фактически такого термина он не использовал. В тексте Хомякова «соборность» появилась благодаря переводчикам его французских брошюр. П. Вальер считает, что переводчики использовали слово «соборность» для передачи смысла выражения «lidée même des conciles». В чем же заключалась эта «идея соборов»? Как показал прот. П. Хондзинский, Хомяков в противовес академическому богословию определил предикат «соборная» (взятый из Символа веры) как внутреннее единство церкви, вне прямой связи с церковными институтами. Как и позднее Р. Зом, Хомяков рассматривает церковь в качестве органического союза любви, а не правовой организации. Представление о таком экклезиологическом единстве базируется на взгляде на церковь как на представляющую, как пишет Хомяков, «одну живую индивидуальность» или «личность живую, одушевленную Духом Божиим». Восприятие церкви как мистической личности в конечном итоге привело Хомякова к переосмыслению и проблемы власти в церковном сообществе:
Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина, и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его; ибо Бог, Христос, Церковь живут в нем жизнью более действительною, чем сердце, бьющееся в груди его, или кровь, текущая в его жилах; но живут, поколику он сам живет вселенскою жизнью любви и единства, то есть жизнью Церкви.
Противопоставление внешнего авторитета и внутреннего опыта становится для Хомякова тем критерием, с помощью которого он выявляет специфику православия и западных исповеданий. В протестантизме и католицизме истина, как полагает Хомяков, открывается через «внешние» средства: авторитет Священного Писания или авторитет римского папы. «Православной» же чертой Хомяков полагает внутреннее познание истины через причастность верующего жизни церкви. В этом и заключается соборное начало церковной жизни, в котором, как иллюстрирует издатель текстов Хомякова Ю. Ф. Самарин (1819–1876), соборность прямо не соотносится с институтом собора: «Никогда Церковь не усвояла заранее никакому собору характера вселенскости». Таким образом, идея соборности в мысли ранних славянофилов оформляется как идея мистического единства церкви, а церковный авторитет связывается исключительно с формальными критериями истинности, которые кажутся Хомякову чуждыми православию.
Представление о том, что церкви чуждо формальное регулирование, сближает Хомякова и Зома. Но заметны и явные различия. В концепции протестантского мыслителя носитель харизмы владеет безусловной властью, которому община, хотя и в рамках рецепции, оказывает послушание. Хомяков же кажется более радикальным автором, поскольку он отказывается от принципа традиционной иерархичности. Его, как известно, вдохновляла фраза из § 17 «Послания восточных Патриархов» 1848 года о том, что в православной церкви
ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести что-нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть самое тело Церкви, т. е. народ, который всегда желает сохранять веру свою неизменною и согласною с верою отцов его, как-то испытывали многие из пап и латинствующих патриархов, со времени разделения нисколько не успевшие в своих против нее покушениях.
Как видится, в этом тексте говорится не о праве народа учить, а скорее о верности народа православному учению. Хомяков же, напротив, в Послании видел сокрушение «полу-Римского иерархизма» и совершенно вольно пересказывал его в своем письме англиканскому богослову В. Палмеру (1811–1879):
Папа очень ошибается, предполагая, что мы считаем церковную иерархию хранительницей догмата. Мы смотрим на дело иначе. Непоколебимая твердость, незыблемая истина христианского догмата не зависит от сословия иерархов; она хранится всею полнотой, всею совокупностью народа, составляющего Церковь, который и есть тело Христово.
Хомяковская трактовка фразы из Послания во многом определила представления о церковной власти в русском внеакадемическом богословии, вместе с этим в богословский язык вошло представление о народе Божьем как о церковной общине, которую объединяют скорее горизонтальные, чем вертикальные отношения. С точки зрения Хомякова, община собирается не вокруг иерархии, общину созидает союз любви, из логики которого возникает функциональная необходимость иерархии. Так Хомяков трактует последствия Пятидесятницы: Святой Дух дарует внутреннее познание истины взаимной любви христиан. Поскольку истина открывается всей совокупности верующих, Хомяков отказывается от традиционного для своего времени деления на «церковь учащую» (иерархию) и «церковь учимую» (мирян). Поэтому власть учить, по Хомякову, принадлежит именно народу Божьему (общине, а не харизматику — если излагать этот тезис в терминологии Зома).
Подход Хомякова к определению власти в церкви прямо противоречил тому, как место церковной иерархии в это же время рассматривал свт. Филарет. Если Хомяков расходится с Филаретом в своем взгляде на власть в церкви, то их исторический аргумент, в рамках которого они обращаются к апостольскому веку, кажется близким. Когда Хомяков отсылает к Пятидесятнице, это событие он описывает как конституирующее церковную общину. Раннехристианская община в Иерусалиме, таким образом, становится тем должным образцом, к которому должна стремиться в своей организации церковь. С одной стороны, здесь используется во многом близкий славянофильской риторике прием: как идеализируется и вместе с тем становится нормативным образ допетровской России, так и древняя апостольская община становится мерилом для современной церкви. С другой стороны, Хомяков продумывает и мистическую связь в истории: Таинство Миропомазания, как он пишет, «вводя нас в недра общины, то есть земной церкви, делает нас причастниками благословения Пятидесятницы».
Отсылка к иерусалимской общине как аргумент активно начинает использоваться и во второй половине XIX века. В 1860-х годах еп. Феофан (Говоров, 1815–1894) наставлял инокинь: «Как для общины — вот для вас закон, представляемый примером первой Апостольской Церкви… Как там все было обще, так да будет все обще и у вас». Однако, как и Филарет, он в рамках нового дискурса об общине ставит иерархию над народом как законную носительницу власти в церковном сообществе:
Такого рода лица в Церкви суть не от общества христиан, а от Самого Господа… Он же давал и дает таковых и доселе Церкви, чрез друг-друго-приимательную благодать, иногда и с помощию непосредственных, чрезвычайных, указаний. В этом… надо видеть и богоучрежденность руководства в Церкви, и богопоставляемость руководителей.
Еп. Михаил (Грибановский, 1856–1898), развивая мысль Феофана Затворника, в речи «В чем состоит церковность» (1886), обращаясь уже к современным приходским пастырям и членам их общин, указывал на то, что «идеал прихода» должно усматривать именно в «первоначальной христианской общине».
Эти (и многие другие) примеры, хотя и говорят о трех разных феноменах — мирянах, монашествующих и приходских общинах, отображают, как в это время меняется историко-богословский аргумент. Его логика применяется как на более локальном уровне — по отношению к церковной общине, так и на поместном — к соборности.
Что касается соборности, то тут возникает отсылка если не к апостольской общине, то к апостольскому собору, который становится образцом реализации соборной жизни церкви. В 1880-х годах выходит ряд статей прот. А. М. Иванцова-Платонова (1835–1894), который связывает концепцию соборности с церковным устройством и пишет о ключевом значении соборов в церковной жизни (переосмысляя тем самым аргумент Хомякова и Самарина):
Церковь называет себя соборною; характер церковного управления должен быть соборный. Никакие исторические обстоятельства, никакие формы народного и церковного управления не могут устранить в жизни церковной надобности собирать соборы.
Это соборное управление противопоставляется «бездушно-административному механизму» Святейшего синода, т. е. принятой в то время форме управления церковью. Данная оппозиция связана с идеей независимости церкви, так как соборность только тогда становится «церковно-пастырской», когда представители церкви назначаются самой церковью, а не государством. От идеи самостоятельности Иванцов-Платонов приходит к утверждению о несоответствии синодального устройства «каноническим основам» церкви:
Вот что составляет главнейшую болезнь нашего церковного управления: <…> бюрократический, чиновнический характер церковного управления, с подавлением в нем собственно духовного пастырского элемента и с искажением древних канонических основ соборного управления.
Различие соборности и коллегиальности прот. Александр видит в том, что при «синодальном» устройстве император сверху управляет церковью, а при соборном управлении решение церковных проблем осуществляется изнутри, посредством совещания епископов на соборе под председательством первоиерарха. Поэтому свои рассуждения о. Александр закономерно завершает призывом к восстановлению патриаршества.
В начале XX века этот критический пафос получает широкое распространение и, с одной стороны, приводит к необходимости обсуждения и осуществления церковных реформ, с другой стороны, радикализируется и приводит к критике обмирщения церковного устройства. Противопоставление «оживляющей» церковную жизнь соборности и «мертвящей» коллегиальности синодальной системы переносится на критику церковной иерархии за ее согласие с намерениями императора Петра I реформировать модель церковного управления в начале XVIII века. В 1903 году С. Г. Рункевич (1867–1924), обер-секретарь Святейшего синода и его апологет, в своих исследованиях пытаясь отвести критику исследователей от «молчания» епископата в Петровскую эпоху, предлагает такую дилемму: либо архиереи действительно поддерживали церковные реформы императора, либо учреждение Синода есть именно «духовная смерть церкви». Фраза Рункевича, хотя и была направлена на защиту Синодального устройства (ведь как можно свидетельствовать о смерти церкви?), была распространена в прямо противоположном значении. Уже в апреле 1905 года выходит статья проф. КДА В. Завитневича (1853–1927), который описывал последствия церковно-государственных отношений в категориях кризиса церковной жизни, предваряя их фразой, что «государственное начало», которым проникнут Святейший синод, есть «смерть для церкви».
Таким образом, интеллектуальный контекст рубежа XIX и XX веков вынуждает различных авторов соотносить свои богословские идеи с проблемой напряжения между институтом и общиной. Хронологически сначала в академическом богословии возникает интерес к этой проблематике в наследии Хомякова, и так формируется контекст, в рамках которого развивается позднее концепт харизмы. Отождествление этих двух контекстов происходит в начале века. Как пример можно рассмотреть утверждение иером. Михаила (Семенова) в его вступительной лекции 1903 года по церковному праву в СПбДА:
Церковь — не организация в правовом смысле (Kein Organisation), пишет протестант Sohm; понятие церкви противоречит решительно понятию правовой организации. — Это организация только харизматическая; церковь не знает ни понятия власти, в правовом смысле, ни юридической правды; — Хомяков, которого часто обвиняют в протестантстве, также решительно настаивает, что церковь не учреждение правовое.
Кажущаяся близость тезиса Зома о харизматической организации экклезиологическим идеям Хомякова, на которую обратил внимание в начале века иером. Михаил (ставший несколькими годами позже опальным профессором духовной академии из-за своих политических высказываний и перешедший потом в старообрядчество), стала характерным представлением для русской богословской мысли в начале XX века. Можно даже сказать, что Хомяков и Зом получили равную популярность в среде духовно-академических и университетских исследователей. Однако, как видится, оба богослова при близких интуициях исходили все-таки из разных оснований. Власть учить, по Хомякову, принадлежит народу Божьему, т. е. общине, а не харизматику. Напротив, у Зома учительная власть принадлежит исключительно носителю харизмы, община лишь подтверждает его истинность. Тем не менее развитие экклезиологических идей Хомякова в контексте критики институтов церковной власти обозначало проблему обоснования церкви как иерархической структуры. Для академического богословия, ставившего перед собой эту задачу, источником для разрешения подобных вопросов были активно развивающиеся научные исследования протестантских ученых.