Ценность нечеловеческой жизни
Отрывок из книги Алекса Томаса «Экологическая поэтика Андрея Платонова»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Алекс Трастрам Томас. Экологическая поэтика Андрея Платонова. Рассказы конца 1930–1940-х. М.: Common Place, 2023. Перевод с английского М. Мушинской, послесловие Е. Кучинова. Содержание
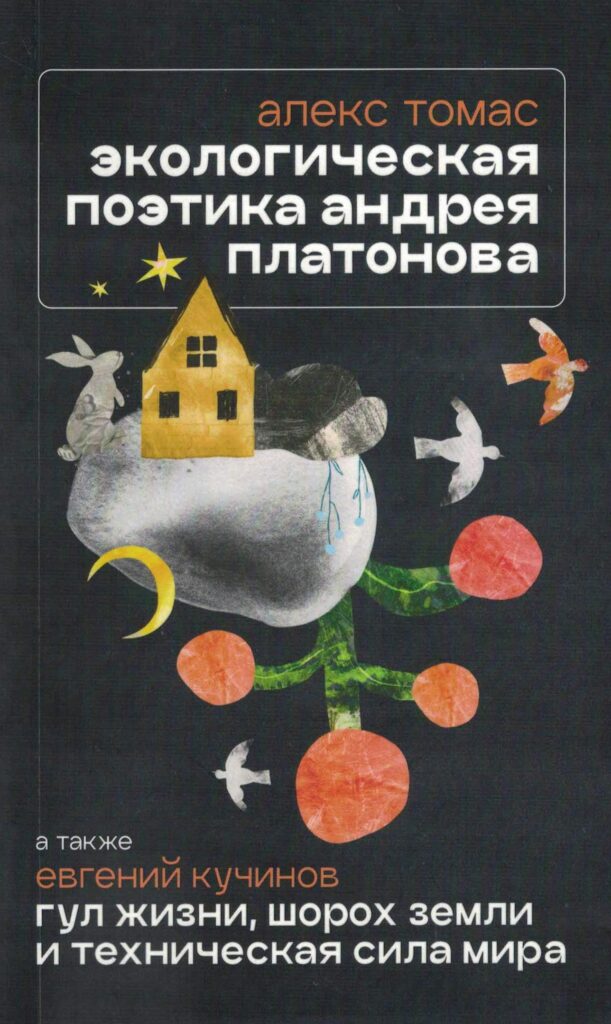 «Какое-то небольшое животное кротко заскулило в своем укрытии, его никто там не трогал, но оно дрожало от испуга собственного существования, не смея предаться радости своего сердца перед прелестью мира, боясь воспользоваться редким и кратким случаем нечаянной жизни, потому что его могут обнаружить и съесть. Но ведь и скулить тому животному тоже не надо: его заметят и пожрут безмолвные хищники».
«Какое-то небольшое животное кротко заскулило в своем укрытии, его никто там не трогал, но оно дрожало от испуга собственного существования, не смея предаться радости своего сердца перед прелестью мира, боясь воспользоваться редким и кратким случаем нечаянной жизни, потому что его могут обнаружить и съесть. Но ведь и скулить тому животному тоже не надо: его заметят и пожрут безмолвные хищники».
В этом пассаже хорошо видно умение Платонова описывать нечеловеческий мир, не прибегая к человеческой контекстуализации. Рассказчик (а через него и читатель) наблюдает животное из перспективы, которую нельзя приписать человеку, потому что у человека (Ивана) нет реальной возможности увидеть его. Животное живет своей «нечаянной жизнью» независимо от человеческой оценки. Это маленькое животное воплощает типичный парадокс Платонова: ему нельзя скулить, но оно не может не скулить. Оно должно скулить, чтобы дать выход «испугу собственного существования», и в то же время не должно, чтобы не подвергать себя риску быть съеденным. Но оно все-таки заскулило, что для читателя логически имплицирует его последующую гибель. Таким образом, парадокс жизни этого животного заключается в недопустимости звуковой реализации того, что может проявляться только в звуке. В этом можно видеть аллегорический смысл, распространяющийся не только на персонажей рассказа, но и на внетекстуальный уровень, но эта многозначность не уменьшает значимости того, что испытывает животное. Апеллируя к человеческому опыту читателя, автор заставляет его почувствовать, каково быть таким «небольшим животным», и эта проницаемость опыта составляет основу экологического мироощущения. Как бы в подтверждение этой идеи стону животного вторит проходящий поезд, гудок которого описывается в человеческих выражениях: «...жалобный голос бегущего измученного человека».
Мы находим еще один, хотя и совсем не похожий на этот, пример недопустимости звуковой реализации в рассказе о корове («Корова», 1938—1939). Ее невыносимые страдания из-за потери теленка, которого продали на забой, усугубляются тем, что она животное и не может дать выход своим чувствам, как это бывает у людей:
«...свое горе она не умела в себе утешить ни словом, ни сознанием, ни другом, ни развлечением, как это может делать человек».
В подтексте этой фразы слышится намек на боль самого Платонова, лишенного возможности излить свое горе по поводу ареста сына, но здесь также присутствует и глубокое сопереживание нечеловеческому Другому. Как всегда у Платонова, подтекст составляет неотъемлемую часть художественного целого, сообщая повествованию объемность и смысловую многозначность и выводя его за узкие пределы человеческого существования. Это продолжается в следующем абзаце: «Она глядела во тьму большими напитыми глазами и не могла ими заплакать, чтобы обессилить себя и свое горе». О преодолении разграничения «человеческое/нечеловеческое» говорит в своем анализе «Джана» Нариман Скаков, замечая, что текст Платонова «разрушает четкую границу между человеческой сферой и сферой животного мира, делая ее более подвижной, чем в любом другом современном ему советском тексте». Хотя исследователь лишь подводит свое рассуждение к области нечеловеческого, не пытаясь найти адекватный способ для анализа этой поэтики, его формулировка верна по отношению ко многим произведениям Платонова, о которых мы будем говорить.
Первый признак антагонизма человека и природы появляется уже в начале рассказа «Среди животных и растений», в сцене в лесу. Охотник Иван смотрит на муравьев, и они представляются ему «как маленькие добропорядочные люди <...> с кулацким характером <...> [о]ни весь мир собирают себе по крошке, чтобы получилась одна куча». Это сложный и как будто бы противоречивый образ, особенно если учесть, что в других вещах Платонова муравьи изображаются позитивно по ассоциации с социалистическим трудом. Перед тем как уйти, Иван топчет муравьев в странном приступе ярости, направленной на нечеловеческий мир — но именно из-за его ассоциации с человеческим. Этот акт отрицания демонстрирует неартикулируемый дуалистический конфликт в душе сельского охотника, вынужденного делать выбор между природой и рационально организованным, урбанизированным миром человека, в который он скоро будет вовлечен; этот конфликт разрешится только в финале рассказа.
Дискурсивный конфликт повествования вскрывается также в образе другого животного — зайчонка, которого герой находит в лесу. Иван наблюдает, как он сидит на задних лапках «почти по-человечески». Это одно из тех замечаний, которыми Платонов размывает границу между человеческим и нечеловеческим. Сравнение зайца с человеком — не антропоморфизация, а способ представления всякой жизни частью неразделимого континуума, где все обладает сходными свойствами и опытом. Ивану незачем брать на себя заботу о зайчонке, он вышел в лес совсем с другой целью — на охоту, однако он приносит его домой вместо ожидаемой дичи, чем вызывает негодование матери и жены. Этот иррациональный, чисто инстинктивный поступок резко отличается от реакции Ивана на муравьев и в то же время отражает общее сочувственное отношение автора к слабым, уязвимым, маргинальным существам, которое проявляется во всей его прозе. Характерной чертой поэтики Платонова является и то, что его сочувствие распространяется за пределы сферы человеческого — это подчеркивается в сцене, когда старая мать Ивана вымещает свою досаду на живом существе, избивая его: следует подробное описание боли и ужаса, испытываемых зайчонком, но животное забывает об этом «ради будущей жизни». Искусство забывать испытанные страдания, безусловно, не является прерогативой нечеловеческих существ, особенно если иметь в виду время, когда писался этот рассказ, — в этом смысле эпизод с зайчонком проецируется из нечеловеческого мира обратно в человеческий, а тем самым вновь нарушаются границы, в пределах которых истинное сочувствие возможно только по отношению к человеческим существам.
Зайчонок вовлечен в интертекстуальный диалог с коровой из одноименного рассказа. Если он способен забыть о своей травме ради будущей жизни, то корова не понимает, «что можно одно счастье забыть, найти другое и жить опять, не мучаясь более». Причина этого в том, что «ее ум не в силах был помочь ей обмануться». Разумеется, травмы зайчонка и коровы несопоставимы, они описываются человеческим языком, тем не менее разница между ними количественная, а не качественная, и это указывает на текучесть границ между формами жизни в поэтике Платонова, где переход от человека к маленькому неприметному зверьку и обратно происходит с почти неощутимой легкостью.
Мать Ивана оправдывает свою жестокость к зайчонку тем, что иначе мужики перестанут делать свою работу — заботиться о доме и семье, и в конце концов дикая природа захватит надежный, обустроенный людьми исключительно для себя мир: «...выйдет заяц из кустов и будет гадить там, где жил человеческий род». Ее страх перед вторжением природного мира в домашнее человеческое пространство, выраженный в такой резкой форме, контрастирует с описанными до этого ощущениями Ивана, который не чувствует непреодолимой границы между домом и не-домом и не рассуждая переносит через нее животное. В этом смысле деревенский охотник Иван оказывается носителем экологического мироощущения, в то время как его мать и жена представляют антропоцентрический склад мышления, свойственный «городской» культуре (хотя и они являются деревенскими жителями), и изображены как отрицательные персонажи. Происходящее описывается с точки зрения зайчонка, и в сочувствии к нему рассказчика, при отчужденном отношении к старой женщине, проявляется глубокая укорененность экологического сознания в поэтике Платонова.
Страх старухи перед нечеловеческим Другим можно зеркально противопоставить эпизоду из «Реки Потудань» (1936), где после ухода Никиты Фирсова из дома его старый отец, оставшись один, хочет «взять к себе хоть побирушку с улицы — <...> чтоб, вроде домашнего ежа или кролика, было второе существо в жилище». В противоположность старухе, для него нет резкого разграничения между человеческим и нечеловеческим: «...пусть оно мешает жить и вносит нечистоту, но без него перестанешь быть человеком». Идея взаимосвязанности человеческого и нечеловеческого, чуждая присущему западной культуре антропоцентризму и отражающая экологическое мышление, вновь и вновь звучит в зрелой прозе Платонова, когда он переключает повествование на точку зрения стариков или детей — такие персонажи часто оказываются у него выразителями экоцентрического мироощущения. Мы видим один из таких моментов, когда маленькая дочка Ивана засыпает, «насмотревшись на зайца», но более явный пример в этом рассказе — старый отец Ивана Алексей Кириллович, тоже охотник. Он учил детей есть мясо «экономно, разумно» и с пользой, потому что животные — это «погибший дар природы» и «дорогие души на свете». Когда невестка принималась пилить его сына, Алексей Кириллович, чтобы разрядить обстановку, звал его «на охоту — к животным и растениям». Эта реакция старика — искать в природе утешения и отвлечения от человеческих проблем — вообще характерна для поэтики Платонова, она становится главным способом защиты для его страдающих, несчастных, вытесненных из жизни героев. Как можно видеть по примерам из «Среди животных и растений» и «Коровы», старики и маленькие дети — главные выразители ключевых моментов в поэтике Платонова. В центре рассказа-сказки того же времени «Любовь к Родине, или Путешествие воробья» (1936) — жизнь птицы, которую мы видим глазами старика, выходящего по вечерам играть на скрипке на Тверской бульвар. Часть повествования занимает фантастическое путешествие воробья, которое он совершает самостоятельно, и в этом эпизоде он наделен полным набором человеческих эмоций; но точка зрения старика остается тем стержнем, который позволяет повествованию развиваться, сохраняя птицу в фокусе внимания. Старый скрипач воплощает экологическое сознание, его видение мира лишено иерархичности, свойственной человеку. Он думает о воробье: «Пусть живет и заботится, ему тоже надо существовать». Такая забота о потребностях нечеловеческого Другого типична для очень старых или очень юных персонажей Платонова, которые видят мир в менее антропоцентрических категориях, чем те, кто находится в середине жизненного пути. Потребность нечеловеческого Другого в существовании — итог экологической поэтики платоновской прозы, зафиксированный в образах воробья, зайчонка, коровы — в последнем случае эта потребность жесточайшим образом попрана. Смерть воробья и заключительная фраза рассказа: «Тогда он [старик] положил скрипку на место и заплакал» — заключительным аккордом возвращают нас к этой идее, напоминая о внутренней и внешней ценности нечеловеческой жизни.