Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Мих. Лифшиц. Что такое классика? СПб.: Умозрение, 2023. Содержание
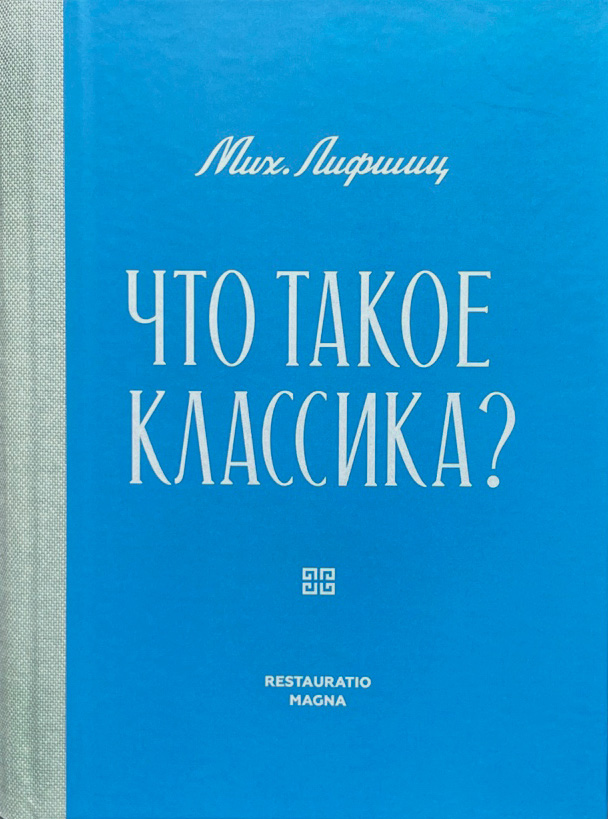 ***
***
Существует ли марксистская этика? В переписке с Мих. Лифшицем Дьердь Лукач заметил, что ее еще только предстоит создать. Осуществить свой замысел он не успел. Следует ли отсюда, что марксизму нечего сказать на этот счет?
Рассуждения о природе добра и зла, если мы отвлечемся от абстрактного морализаторства, кажутся страшным анахронизмом. Уже в конце XIX века люди вроде Ницше с иронией относились ко всякой серьезной попытке начать подобный разговор. Добро и зло — условности, категории чисто исторические, продукты определенных обстоятельств, инструменты в руках тех, кто хочет эти обстоятельства изменить или же увековечить.
Нечто подобное утверждали и марксисты: у буржуазии своя, буржуазная мораль, и она никак не соотносится с моралью пролетарской. Изменившиеся экономические условия, в которых существуют разные классы, порождают изменения и в морали. Базис определяет надстройку. Можно ли говорить о каком-то внеисторическом добре и зле? Нет, есть только полезное и бесполезное — полезное для определенного класса в определенных обстоятельствах и бесполезное тогда же и для него же.
Но если это было очевидно уже в конце XIX столетия, если и сами марксисты уже тогда подняли на щит моральный релятивизм, то почему Лукач в 1960-х надеялся изложить основные положения марксистской этики в будущем? Дело в том, что предшествующая история, победа революции в России, расширение мирового коммунистического движения после победы СССР во Второй мировой войне и т. д. показали недостаточность тех ответов, которые были даны накануне указанных масштабных событий.
Марксизм — не только экономическая теория, не только революционная практика, но и целостное философское мировоззрение, способное ответить на самые острые вопросы, стоящие перед людьми. Именно так смотрел на него Мих. Лифшиц, который в своей беседе с Ласло Сиклаи отмечал: «Какой-нибудь сотрудник французского журнала „Esprit“ говорит: „Допустим, что марксизм хорош, но вот метафизического понимания добра и зла в нем нет“. На это можно ответить, что не метафизическое, но истинно глубокое понимание добра и зла в марксизме есть, и заложено оно именно в его объективном экономическом и социально-историческом содержании».
Раскрыть это глубокое понимание добра и зла, не сводя их ни к утилитарному релятивизму, ни к абстрактной внеисторической морали на церковный манер, Лифшиц стремился как в публиковавшихся при его жизни текстах, так и в рамках работы над своей философской системой — диалектической онтогносеологией.
Один из этапов его работы нашел свое отражение в лекции «Добро и зло», прочитанной предположительно как раз в середине 1960-х, когда они с Лукачем обсуждали возможность создания марксистской этики.
Алексей Лагурев
Фрагмент лекции Мих. Лифшица «Добро и зло»
Мы материалисты, и предполагать, что существует какая-то отвлеченная нравственность, не связанная с принесением пользы, не связанная с материальным благом, не связанная с фактической основой, с какой-то реальностью, состоящая просто в добром делании, в одном лишь только формальном мотиве, с нашей точки зрения будет, пожалуй, конечно, недостаточно. Такая чисто формальная нравственность, которая развита была протестантской моралью, а вслед за этим Кантом, нравственность побуждения, нравственность мотива, невзирая на факты, невзирая на пользу и даже вопреки этой пользе, конечно, эта точка зрения не может быть принята нами как нравственная точка зрения. Она не может быть принята нами как нравственная точка зрения потому, что такая точка зрения, в сущности говоря, есть дело простой тоже позы какой-то внутренней, очень сложной и требующей иногда каких-то болезненных ущербов для самого себя, быть может, даже какой-то самоотверженности, аскетизма, но в конце концов сводящемуся [сводящаяся] к внутреннему комфорту, к внутреннему благоустройству, не более того. А чёрта ли нам в том, что человек устраивает себя внутренне, благоустраивает себя? Это его частная забота, это даже порядочный эгоизм, правда, облаченный в такую особую ризу. Вообще, слабость всякого отвлеченного морализирования, не исключая той слабости, которая есть у великих писателей Толстого и Достоевского, есть, так сказать, слабость морали спасения собственной души, «salvavi animam meam» [я спас свою душу (лат.)], и все. Я спас свою душу и руки умыл, а вы — черт с вами. Слабость, которую мы находим у величайших, в сущности говоря, нравственного содержания людей в их писаниях. Я перед тем, как идти к вам, прочел ряд статей Толстого, «Зеленую палочку», «Первая ступень». Великолепно. <...> И не случайно мораль спасения души родилась очень рано, родилась вместе с распадом общественного организма, общины на сельскую общину многих отдельных хозяев, и в основе ее лежит глубокий индивидуализм, противопоказанный нравственности в собственном смысле слова, ибо все же нравственность есть сплочение людей. Вот такого рода нравственность спасения души не может быть принята материализмом, она тоже абстрактна, она тоже отвлеченна, она даже недостаточно касается по-настоящему шкуры человека, не ставит ее на карту, хотя, казалось бы, так много говорится тут о личном отношении, о близкодействии, но это близкодействие абстрактно; в свою очередь, она не является таким решением вопроса, за которым следуют дела, и хотя дела — принцип морали католической церкви — тоже могут превратиться в обрядность и в пустоту, но без дел вера мертва, без дел, все-таки, нравственности не бывает.
Так что я обращаю ваше внимание на то, что нравственность подлинная, она не должна быть нравственностью спасения своей души. Конечно, нравственность всякая не есть эгоизм, но она не есть и выспренний эгоизм, эгоизм самоудовлетворения, самоублажения на какой-то нравственной позе. Поэтому можно даже сказать, что иногда может создаваться такое положение, когда человек глубочайшей нравственности настолько будет не заботиться о спасении своей души, что возьмет на себя бремя самой тяжелой, грязной и жестокой работы. И это можно сказать прямо — тот человек не является по-настоящему нравственным типом, который сваливает эту работу на других, который просто уходит в сторону и считает себя чистым на том основании, что он не принимал ни в чем участия, не принимает ни в чем участия, думая таким образом спастись. Не знаю, ошибался Герцен или не ошибался, по-моему, не ошибался, но он сказал, что нужно было быть человеком громадной нравственной энергии, чтобы, проливая слезы, подписать приговор Камилю Демулену, имея в виду Робеспьера. Этим вовсе ничего не говорится о том, что можно легко прикрывать свою (тут опять есть свои сложности) легкость к произнесению приговоров фразами о том, что тяжело их переживать, что надо кому-то это делать и т. п. Тут можно тоже найти какую-то зацепку. Человечество неисчерпаемо в изобретении всякого рода нравственных сочувствий, неисчерпаемо, но это вовсе не значит, все-таки, что истины не существует. Истина, все-таки, существует, несмотря на самые сложные методы ее извращения. Во всяком случае, я хочу сказать, что абстрактная мораль, которая не имеет в основе своей реальное благо, а представляет собой только одну лишь концентрацию добрых пожеланий, только одну лишь чистоту намерений, такого рода мораль — идеалистическая мораль, не является подлинно нравственной, не является, в последнем счете, и такой, которая может удовлетворить требовательное нравственное чувство. Поэтому в этом смысле мы стоим вместе со Спинозой, вместе с Гельвецием, вместе с Дидро, вместе со всеми материалистами, мы стоим вместе с Чернышевским в огромной степени, мы стоим на том, что в основе морали лежит полезное действие, лежит материальное благо, или духовное благо, но благо, приносимое другим людям, приносимое себе, приносимое обществу. И мы знаем слова Ленина: «Нравственно то, что полезно для коммунизма, безнравственно то, что вредно для коммунизма». Это совершенно правильно.
Но что полезно для коммунизма? Это не знаете наперед? Что нужно человеку? Если бы мы знали наперед, то мы могли бы из принципа пользы декретировать какие-то выводы, какие-то последствия. Но мы этого не можем вывести из принципа пользы. Мы это можем вывести только из какого-то конкретного знания того, что нужно человеку и что нужно коммунизму, что нужно прогрессу, что действительно ему нужно, в отличие от того, что ему не нужно, что, может быть, только кажется ему нужным. Ведь так тоже может быть.
И вот здесь есть место для постановки вопроса не только с точки зрения целесообразности и пользы, но и с точки зрения нравственности, здесь есть такая сторона, где мы можем сказать — здесь без Толстого и Достоевского не пойдешь. Здесь есть такой момент, где Толстой и Достоевский действительно, что у них можно с глубочайшим почтением взять и с глубочайшим уважением понять, что нисколько не противоречит хорошо понятому марксизму, что нисколько не отдаляет их, несмотря на все их заблуждения, от общей действительно верной, действительно глубокой линии развития нравственной жизни человечества. Это их чрезвычайно принципиальный, чрезвычайно последовательный вопрос о том, что поистине нужно человеку, что по-настоящему соответствует целесообразности, а не просто формально полезно, формально целесообразно.
У меня была приятельница, лет 8-9, когда я жил в Третьяковской галерее, дочка нашей дворничихи Третьяковской галереи, по имени Тамара, Тома. Она часто ко мне заходила и дарила мне свои сентенции глубокие нередко по содержанию. Однажды она пришла, я сижу и читаю что-то. Она спрашивает: «Что ты делаешь?» «Вот, видишь, читаю». «А что ты читаешь?» «Книгу читаю». Стояла, стояла, подумала, потом спросила: «А на кой это?» И вот так запомнилась мне эта фраза. И я должен сказать, что у меня нередко бывает искушение спросить себя и других: «А на кой это?» Ведь не все затеи, которые бывают у человека, во имя целесообразности, во имя пользы, не все они так уж действительно полезны и целесообразны, и очень полезно спросить так, как спрашивал Толстой по-мужицки, по-дурацки: а действительно ли это нужно человеку? А действительно ли, спрашивал Толстой, нужно для спасения его души? Но если перевести это на язык материализма, если прочесть это по-настоящему, по-реальному то, что он там говорит, то где-то, в конце концов, и есть вопрос о том, а что по-настоящему, для высшего блага человека, нужно это или не нужно? Или, может быть, нужно другое?
Нужно сказать, что полезность есть тоже вещь такая, которая может перейти в свою противоположность, [стать?] не только полезной, но и даже вредной. Бывают эксцессы целесообразности, и мы с вами очень хорошо знаем это, и мы с вами, может быть, сами грешили. Не знаю, вы, может быть, отговоритесь своей молодостью, а мне уже, конечно, это не подходит. Но должен сказать, что я принимал, по крайней мере, участие в таких грехах, когда стремятся люди к чему-то, что кажется им совершенно целесообразным, совершенно полезным, а между тем иногда рано или поздно приходит эта мысль: «А на кой это? А может быть, это вовсе совсем не так нужно человеку, как это кажется?»
Во-первых, надо вам сказать, что утилитаризм и марксизм — это совершенно разные вещи. Вот, читая, скажем, какого-нибудь профессора Таймора, швейцарского профессора, который критикует марксизм, я вижу, что им, конечно, чрезвычайно легко марксизм представить, как разновидность утилитаризма, т. е. таких теорий, которые считают, что польза главное, польза есть критерий истины и для пользы можно совершить все что угодно. И вот без труда достигается торжество над марксизмом — как вы можете рассматривать все под углом зрения пользы, утилитарности, что значит рационализм, когда история нам показывает зрелища самых нелепых, самых фантастических движений? А вы все это должны выводить из каких-то экономических интересов, из каких-то рациональных побуждений. Люди стремились всегда к каким-то материальным благам, пользе, а вы посмотрите, что они делают — устраивали крестовые походы, крестовые походы детей, <...> всевозможные. Вся жизнь, вся история, начиная с первобытного общества, — сплошной ряд фантастики, психических болезней каких-то, и сейчас вы упускаете в своем новом бравом мире, в своем стерильном обществе, к которому вы стремитесь, упускаете важное звено человеческой жизни, вы упускаете иррациональные побуждения, которые всегда в человеке есть, то, что он злораден, что ему хочется совершать что-то скверное, злое, то, что раскрыто Фрейдом, то, что раскрыто Юнгом, то, о чем трещит от перенаполнения вся мировая литература, вы совершенно это игнорируете, у вас человек есть рациональное существо, которое стремится только к пользе, и вы хотите эту пользу свести к каким-то формулам.
Конечно, эта точка зрения ложная, и по двум причинам. Ложно, конечно, это предписывание человеку такого естественного, безусловного, иррационального, подпочвенного, подсознательного устремления. Хотя надо вам сказать, вы должны знать это, что такого рода авторы настолько популярны, что они входят даже в программу политических партий. Если вы возьмете программу правых социалистов, как их называют, которые все переменились после 1956 года, то вы повсюду в литературе, которая обосновывает их, или в самих программах найдете это указание — то, что человек есть такое существо в высшей степени коварное, странное, своеобразное, противоречивое, и надо дать выход этим страстям, надо учитывать это, надо, путем организации человеческих отношений на производстве, путем открытия дороги для честолюбия, для престижа и т. д., надо организовать все эти стремления. Но если, конечно, такие прожженные представители политики, дельцы политические, как люди, стоящие во главе больших социалистических партий в Западной Германии, Австрии, Англии, если они такие вещи включают в свои программы, это не случайно, это имеет характерное отношение к современности и реальным фактам. Но я думаю, что, несмотря на это, позиция их ложна, и она ложна еще и потому, что они не понимают того, что марксизм вовсе не так просто отвергает все эти сложные вопросы, и никогда марксизм с утилитаризмом тождественен не может быть, не был и не будет. Когда мы говорим, что люди стремятся к своим интересам, к своей пользе, своей цели и это лежит в основе их нравственных представлений и т. д., неужели мы не видим и не понимаем, что это стремление приводит их к самым фантастическим формам идеализма личного и общественного?
Возьмите поведение скупца, накопителя сокровищ, по терминологии Маркса в «Капитале». Разве это не страшно самоотверженный идеалист, фантазер, который в ущерб самому себе что-то делает? Какая польза для него лично, для него самого в этом накопительстве, стремлении человека оставить обязательно законным детям свой капитал, ради чего бог весть какие совершались преступления и самоотречения всякие и т. д.? Ведь это фантастика. А разве все эти Гобсеки, разве все эти Гарпагоны, Плюшкины, разве это не фантазеры, разве это не фантастические личности? Одним словом, разве стремление к целесообразности, разве стремление к пользе не может приобрести именно фантастического, идеалистического оттенка? Конечно, может. А во-вторых, еще и потому не стоит марксизм на точке зрения утилитаризма и абстрактной целесообразности, что мы прекрасно понимаем, что абстрактная целесообразность очень часто переходит в нечто противоположное, совершенно нецелесообразное. Ради целесообразности возможно, скажем, истребить воробьев, потому что воробьи, как известно, клюют... Это полезно человеку, нужно человеку. Но вы знаете, что нужно человеку? Вам кажется, что это полезно человеку, вы поставили во главу угла какой-то сверхцелесообразный мотив и стараетесь так, чтобы ничто от этой целесообразности не ускользнуло. Вы создаете из этой целесообразности молоха какого-то и терпите крушение потому, что оказывается, как верно Маркс говорил, для того, чтобы знать, что полезно для собаки, нужно знать собачью природу, а не конструировать эту природу, исходя из принципа пользы. Скажите, пожалуйста, оказывается, что жизнь гораздо более сложная вещь, и эта бесполезная штука воробьи в экономии природы, в конце концов, играет очень большую роль, потому что вы не учитываете громадного количества условий и моментов, которые здесь есть, вы вытягиваете из бесконечности природы только одну механическую нитку, но всякий механизм есть какое-то число количественное, ограниченное нагромождение моментов n+1, а в действительности все это связано не с конечным количеством, а с очень большим, или прямо скажу, с бесконечным количеством разных условий. И если вы поставите в качестве исходного пункта и критерия своего мировоззрения в каком бы угодно деле понятие абстрактной целесообразности, то, как бы вы последовательно к этому ни стремились, вы оставите после себя пустыню.
Из истории мы знаем очень часто, как целые культуры, целые цивилизации под влиянием каких-то стремлений именно к осуществлению своих целей, непосредственно полезных им устремлений, приходили в конце концов к тому, что почва переставала родить, она засолонялась, даже искусственное орошение, которое было во многих древних цивилизациях, приводило иногда, в силу, конечно, слабости техники того времени, к неумению воспользоваться всеми данными науки, которыми нужно пользоваться при этом, к совершенно обратным результатам. Значит, дело состоит в том, чтобы таким образом целесообразно поступать, чтобы это целесообразное действие человека входило в какие-то более широкие рамки.
Что же это за более широкие рамки? Какие рамки настолько широки, чтобы ответная реакция природы, ответная реакция мира не показывала нам, что наша целесообразность фантастична, не показывала нам, что наше стремление к цели переходит в свою противоположность? Ответить на это можно только, что для этого нужно знать истину, и нужно жить в истине, и действовать по истине. Это звучит в высшей степени старомодно и как-то не материалистически. Ну что это значит — знать истину, действовать сообразно истине, жить и в каких-то рамках этой истины держаться? Что это значит? Есть ли материалистический эквивалент, материалистическое содержание этих понятий?
Вот Толстой и Достоевский, им ничего не стоило говорить так, потому что они противопоставляли наше земное, материальное стремление к благу, целесообразности, к внешним условиям [— ?] жизни в истине, проповедником которого [которой?] они делали старца Зосиму или еще кого-нибудь в этом роде. Им это в этом смысле было сравнительно легко, а нам это не так легко, потому что мы должны, показав, в чем заключается действительное, реальное содержание понятия истины, никоим образом не позволить себе соскользнуть на тот путь идеалистического толкования этого понятия, который очень возможен, который мы знаем даже в таких превосходных образцах, какими были представители этой точки зрения, такие мыслители, как нравственные герои, как Толстой и Достоевский. И вот я здесь думаю поступить, как авторы сенсационных романов, подведя вас к тому, что нравственная форма есть материальное благо, субспеция, под углом зрения истины, подведя вас к тому, что существует не только количество, меньше или больше насилия, не только большее или меньшее количество прогрессивного общего деяния, полезного деяния, которое делает человек, но существуют какие-то рамки, которые делают одно и то же деяние либо нравственным, либо безнравственным, что это зависит от человека и от человечества. Подведя вас к этому пункту, я и хочу сказать — продолжение следует.
