Стадии понимания
Яков Друскин — о поэтике Александра Введенского
Среди поклонников обэриутов их философский сподвижник Яков Друскин всегда был носителем тайного знания, доступного немногим и лишь обрывочно. Теперь его багаж понимания того, что пониманию не поддается, становится доступен и широкой общественности стараниями издательства «Ад Маргинем» и Музея ОБЭРИУ, которое выпускает двухтомник сочинений Якова Семеновича. Публикуем один из вошедших в него набросков, посвященных «звезде бессмыслицы» — Александру, собственно, Введенскому.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Яков Друскин. Сочинения в двух томах. Том 1. Трактаты и наброски. М.: Ад Маргинем Пресс, Музей ОБЭРИУ, 2026. Содержание
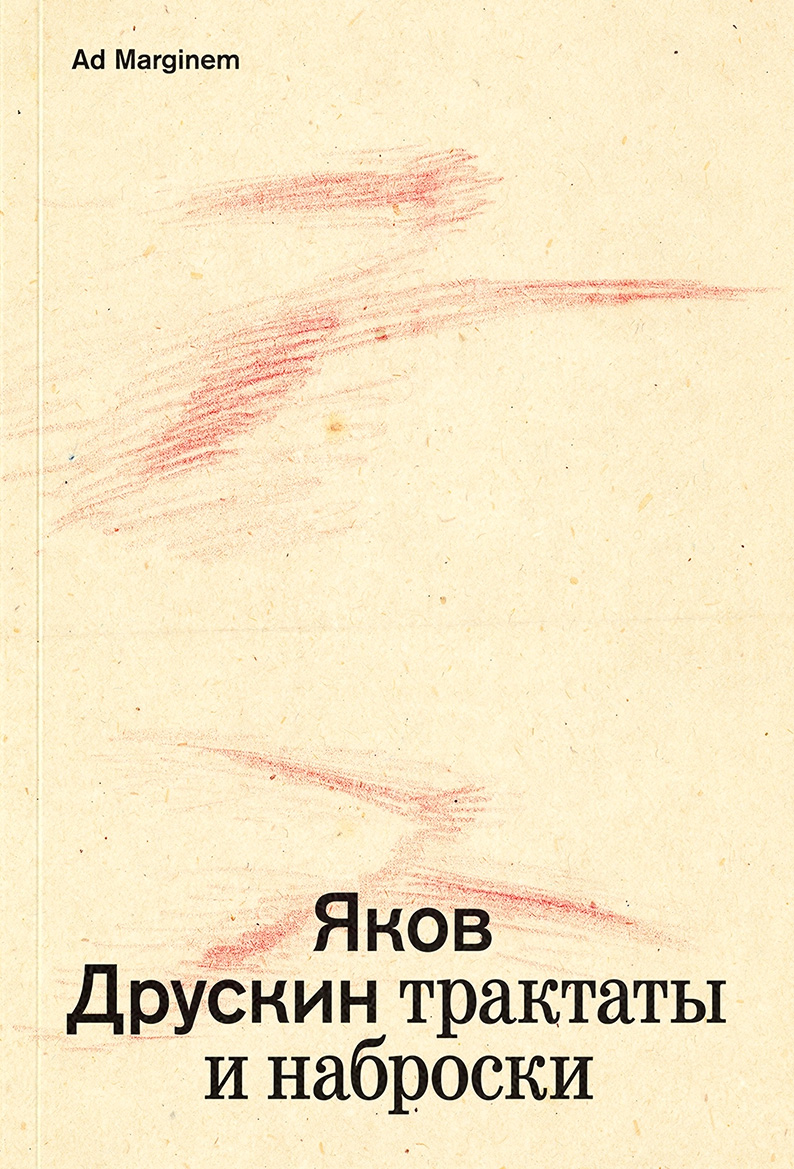
I. Можно выбрать одну вещь писателя, прочесть ее, подумать, изучить, например стихотворение А. Введенского, написать о ней одной, даже не зная других вещей автора, целый трактат. Потому что каждая вещь большого писателя — новый мир, созданный им, до некоторой степени автономный. Таким новым автономным миром будет, например, «Элегия» Введенского, и о ней можно написать целый трактат. Но тот, кто знает только «Элегию», еще не знает самого Введенского, не знает и его творчества, он знает только одно стихотворение, причем наименее характерное для него: в нем нет «звезды бессмыслицы» Введенского, во всяком случае, нет абсолютной неосмысляемой бессмыслицы: крайне усложненная метафора — еще не бессмыслица. Но тот, кто знает все сохранившиеся вещи Введенского, кроме «Элегии», тоже еще не знает Введенского. «Элегия» — исключение, но характерное для Введенского исключение.
Возьмем другое стихотворение Введенского: «Ковер Гортензия» («Мне жалко что я не зверь…»). Здесь есть и бессмыслицы иногда осмысляемые. Но и это стихотворение — исключение в творчестве Введенского: из всех его вещей оно наиболее лирично, в каком-то отношении наиболее личное. И написано оно почти без рифмы, белыми стихами, что у него тоже не бывает. Введенский сам называл «Ковер Гортензию» философским трактатом. Это не противоречит лиричности. «Ковер Гортензия» — лирический философский трактат. Но почему философский? Введенского интересует там то, что интересовало всех нас, то, что Л. Липавский и я назвали соседним существованием, «соседним миром». «Ковер Гортензия» пересекается с рассуждениями Липавского о соседних мирах, с моими «Вестниками». Может, поэтому Введенский и сказал мне: «„Ковер Гортензия“ — философский трактат, его должен был написать ты“. Это не значит, что я мог бы написать его. Это значит, что там есть темы, которых касался и я. В этом смысле „Ковер Гортензию“ мог бы написать и Липавский. И также и Хармс, и Олейников.
Лиричность и свободный стих отличают «Ковер Гортензию» от всех его других вещей. Это снова новый автономный мир, созданный поэтом, но тоже исключение в творчестве автора. Это исключение — характерное для Введенского, но кто знает только «Ковер Гортензию», еще не знает самого Введенского.
Возьмем другое стихотворение: «Сутки». Оно написано в диалогичной форме. Диалог вообще характерен и для Введенского, и для Хармса, но эта вещь написана в строго диалогичной форме: вопрос — ответ. Может, все вещи Введенского полифоничны, но «Сутки» — наиболее полифоничны, — это строгий двухголосный контрапункт: один голос — вопросы, другой — ответы. Когда я говорю: двухголосный контрапункт — это не метафора. Во-первых, необходимо и возможно точно определить применение музыкального термина полифонии к литературе и особенно к стихам Введенского. Во-вторых, двухголосный контрапункт «Суток» я могу точно определить и доказать. Но это отдельная тема, пока же я советую просто прочесть подряд вопросы без ответов и так же ответы без вопросов.
Еще одна особенность отличает «Сутки» от всех других вещей Введенского: в них чувствуется покой, удовлетворенность, которых обычно в вещах его нет. И это стихотворение — исключение, и снова — характерное исключение. Кто знает только «Сутки» — еще не знает их автора, но кто не знает «Суток» — тоже еще не знает Введенского.
Одна из наиболее совершенных вещей Введенского — «Потец». Липавский считал ее вообще лучшей его вещью. Здесь уже полностью царствует «звезда бессмыслицы» — такого совершенного, ясного и в семантическом или морфологическом, и в архитектурном отношении построения «звезды бессмыслицы», такой строго логичной алогичности и полной неосмысляемой бессмыслицы у Введенского, может быть, нигде нет. В этом отношении и «Потец» является исключением в творчестве, правда не таким принципиальным исключением, как «Элегия», или хотя бы «Ковер Гортензия», или «Сутки», но все же характерным. И еще в другом смысле: многие вещи Введенского могут быть названы мистериями-действами. Это не подражание, не стилизация, а вполне современные мистерии, абстрактные драмы, абстрактный театр, созданный Введенским за 20–30 лет до Ионеско и Беккета. Правда, в некоторых (немногих) вещах он как бы отталкивается или пародирует русские действа, например речь царя в «Кругом возможно Бог» или в «Елке у Ивановых» сцена суда («Шемякин суд»). Но большей частью его мистерии-действа вполне оригинальны, самостоятельны и современны. И может быть, в наибольшей степени это относится к «Потец». «Потец» — мистерия-пантомима с краткими монологами и диалогами действующих лиц. Я уже сказал: вещи Введенского полифоничны. Добавлю: они музыкальны. Введенский и сам считал, что его вещи можно положить на музыку. На «Потец» можно написать музыку. Тогда это будет пантомима-балет с чтецом и певцами. В этом отношении и «Потец» является некоторым исключением.
На этом я остановлюсь: если я буду продолжать и дальше перечисление вещей Введенского, то каждая его вещь окажется исключением в его творчестве, исключением характерным и необходимым для понимания Введенского.
Отношение к каждой вещи автора как к новому самостоятельному миру я назову первой стадией понимания. Но для полного понимания автора и его творчества она недостаточна.
Понимание и исследование начинается, может, даже с формального структурного анализа отдельной вещи как автономного мира. Но затем я должен перейти к другой вещи, к другому автономному миру. Тогда я ищу мир более широкого диапазона или радиуса: автономный мир многих автономных миров. Это уже вторая стадия понимания.
II. На второй стадии тоже есть несколько ступеней.
А. Я могу исследовать творчество автора, например Введенского, по жанрам:
Явно драматургические вещи, например «Елка у Ивановых».
Почти явно драматургические, например «Кругом возможно Бог», «Очевидец и крыса», «Потец», «Некоторое количество разговоров».
Неявно внутренне драматургические — их много.
Скрытая драматургия, диалогичность.
Повествовательные.
Лирические.
Б. Можно объединить близкие по жанру и характеру, например «Приглашение меня подумать» и «Гость на коне».
В. Периодизация творчества автора. Для Введенского это:
1. «Парша на отмели» и до 1925, скорее ближе к 1922 году
2. 1925–1928 годы
3. 1929–1930 годы
4. 1931–1933 годы
5. Зима 1933/1934 года. «Ковер Гортензия»
6. С 1936 года
Объединяя некоторые автономные миры в один новый автономный мир, затем новые автономные миры в еще более широкий автономный мир, я перехожу в конце концов к наиболее широкому автономному миру всего творчества Введенского в целом. В этом наиболее широком и полном автономном мире, состоящем из автономных подмиров, из которых каждый снова состоит из отдельных подмиров, я нахожу некоторые общие и частные особенности, отношения и связи миров и подмиров Введенского, которые помогают мне лучше и глубже понять и почувствовать каждое отдельное стихотворение. Но каждое из них написано Введенским — тем же самым Введенским, тем же самым в различном. Поэтому, чтобы понять и почувствовать одно стихотворение, я должен понять и почувствовать все его стихотворения, все его творчество в целом. И здесь возникает ряд вопросов.
Понять и почувствовать:
а) каждый жанр в отдельности;
б) стихотворения определенного периода;
в) общую связь жанров и периодов.
При этом окажется, что не только для понимания последующих периодов надо понять предыдущие, но еще в большей степени для понимания ранних стихов надо понять поздние, именно поздние стихотворения дают ключ к пониманию ранних. Объясняется это особенностями его творчества. У Шенберrа, например, и особенно у Скрябина, развитие творчества идет в направлении и внешнего, и внутреннего усложнения, у Введенского — не так.
Введенский до самого вынужденного конца не отказался от «звезды бессмыслицы». Она все время углубляется, но ее форма проясняется. Его вещи со временем делаются все глубже и сложнее — именно «звезда бессмыслицы» углубляется, но одновременно проясняется, стиль и характер вещи становится настолько ясным, прозрачным, что абсурд, алогичность, бессмыслицу я чувствую как мое, именно мое алогичное, абсурдное существование, я уже не вижу их алогичности. Наоборот, логичность, как показывает мне Введенский, — это что-то абсолютно чуждое мне, внешнее, сама логичность, сама логика Аристотеля начинает казаться мне величайшим абсурдом. Введенский раз сказал: «Я не понимаю, почему мои вещи называют заумными, по-моему, передовица в газете заумна». Это не значит, что абсурд, бессмыслица относительны. Бессмыслица — абсолютная реальность, это Логос, ставший плотью. Сам этот личный Логос алогичен, так же как и Его вочеловечение. Абсурд, бессмыслица — абсолютная реальность и так же, как Благая весть, — не от мира сего. Вещи Введенского — не от мира сего, Божественное безумие, посрамившее человеческую мудрость. Но все мы пали в Адаме, все мы еще разумны, мы можем только в исключительных случаях прорывать нашу разумность — приобщиться к Божественному безумию.
Может показаться, что я отвлекся в сторону. Это не так. Надо понять бессмыслицу Введенского, логику алогичности. Само это соединение слов бессмысленно. Ведь алогично именно то, что не логично. Бессмыслица — это то, что не имеет смысла, то есть непонятно. Фихте как-то сказал: надо понять непонятное как непонятное. Введенский сказал бы: не понять непонятное как непонятное. Он и говорил: по-настоящему понять — это значит не понять.
И все же алогичность имеет свою логику — алогичную логику. Но эта логика для нашего павшего в Адаме разума всегда будет алогичной, не относительно, а абсолютно алогичной — docta ignorantia (Николай Кузанский), безумие для разума.
И все же надо и можно формально определить эту логичную алогичность, или алогичную логичность, или, еще правильнее, алогическую логику алогичности. Эта тема очень большая и выходит за пределы моей темы, я только намечу возможности решения или подхода к этой задаче.
Нет никакого непрерывного перехода от нашей человеческой мудрости логики к Божественному безумию — к алогичности и алогичному Логосу. Само понятие алогичного Логоса уже алогично. Может, это первообраз всякой бессмыслицы — не от мира сего. Но мы пока живем в мире сем, и у нас нет никакого другого языка, кроме языка общих понятий — языка мира сего. У нас нет никакой возможности перейти от мира сего, от человеческой мудрости к Божественному безумию, и все же мы совершаем этот переход. Мы совершаем его в жизни, но не непрерывно, а скачками. Каждый из нас совершает его ежедневно, но не сознавая его алогичности. Поэт, философ совершают его сознательно.
Ни один человек не думает по правилам Аристотелевых силлогизмов или по правилам современной математической или какой угодно другой логики. И ошибаясь, ни один не совершает тех ошибок, которые зафиксированы в классической или современной логике. Я думаю, чаще всего человек ошибается в жизни, следуя логике, совершает ошибку правильного рассуждения. Не ошибается же, совершая логические ошибки. И поэт, философ, поэтическая философия или философская поэзия открывают нам это: ошибку правильного рассуждения и правильность ошибочного нелогического рассуждения.
Я сказал: нет никакого непрерывного перехода от логики к алогичности; нет никакого осмысления бессмысленности. И в то же время для нас, смертных грешников, нет никакого другого языка, кроме языка общих понятий, языка мира сего.
Алогичность, абсурд, бессмыслица — понятия семантические. Можно сказать так: бессмыслица — слово, которое, не обозначает то, что оно обозначает. В некоторых случаях, а может и всегда, можно еще добавить: и именно не обозначая то, что оно обозначает, или обозначая не то, что оно обозначает, оно обозначает именно то, что оно обозначает. Это обозначение применимо к величайшей бессмысленности, может, к первообразу всякой бессмысленности — к Богочеловеку. Бог, именно как Бог, стал не Богом, а человеком — Иисусом, Сыном Марии и, как думали, Иосифа; и именно как человек — Иисус, Сын Марии, — Он был не человеком, а Богом.
Эта бессмыслица такая же семантическая бессмыслица, как и приводимый в логике пример абсурда: круглый квадрат. Бессмыслица по понятию семантическая категория, разница только та, что круг и квадрат существуют только в мысли, а Бог и человек — вне мысли, человек и есть тот, кто мыслит и круг, и квадрат, и противоречивое понятие себя самого — человека, мыслящего и круг, и квадрат, и себя самого, думающего о себе самом и о Боге, создавшем его. Поэтому и различаются бессмыслицы чисто семантические и семантически экзистенциальные. Они различаются не формально, а только по содержанию.
Возвращаюсь к Введенскому. Я не предлагаю общих правил или методов анализа бессмыслицы в его произведениях, только некоторые частные советы:
1. Классифицировать и исследовать приемы и способы алогического соединения понятий в предложения.
2. Классифицировать и исследовать алогичные сюжеты или темы. В «Серой тетради» Введенский пишет: «И сейчас у меня нет сюжета или темы в моих вещах, потому что сюжет в них бессмысленный». Это напоминает слова Шенберга: серия не тема, а одновременно и меньше и больше темы. То же и у Введенского.
3. Найти связь алогичности с тем, что он говорил еще в 20-е годы: меня интересуют три темы: время, смерть, Бог.
Изучение алогичности начинается уже на первой ступени, на чтении и понимании его отдельных произведений.
Но Введенский был не один. Нас было пятеро. Для более полного чувствования и понимания Введенского надо обратиться еще к четырем авторам.
III. Это уже третья стадия понимания. О ней я скажу только вкратце, вопрос о взаимодействии нас, пятерых, очень большой. Я уже сказал, что каждое стихотворение Введенского — новый сотворенный им автономный мир. Но он сотворил не один мир. Каждый из его автономных миров — подмир более широкого мира — стихов определенного жанра, характера или периода. И каждый из этих автономных миров — подмир еще более широкого мира — мира всего его творчества. Но и этот мир — подмир мира пяти авторов, близких друг другу, часто общавшихся на протяжении более пятнадцати лет, а трое из них (Введенский, Липавский и я) — более двадцати лет. Можно найти много связей, пересечений того же самого в различном в творчестве этого мира пятерых. Но сейчас меня интересует другое: оно связано с третьей стадией понимания, но также и со второй, и с первой.
В одной из своих книг в примечании Риккерт пишет: «Критик задает такой вопрос: „А верит ли сам Риккерт в то, что он утверждает?“» Риккерт отвечает: «Этот вопрос неприличный. Предполагается, что каждый ученый — порядочный и честный человек и верит в то, что утверждает». Так вот, я думаю: в некоторых случаях необходимо задавать неприличный вопрос, и прежде всего себе самому. В самых важных для человека вопросах он именно нечестный человек: искренно лжет или лживо искренен, и апостол Павел сказал: «… всякий человек лжив…» (Рим. 3:4).
Евангелие реально задает этот вопрос каждому человеку: ты говоришь, что веришь в Бога. Действительно ли ты веришь в Бога?
Надо различать догмат, исповедание веры, утверждение о вере и саму веру. Никакой догмат веры, никакое признание истинности догмата веры еще не есть вера, живая вера, когда я честно могу сказать: жив Господь, жива душа моя. Нельзя смешивать веру в догмат, пусть самый истинный, веру в веру в Бога и веру в Бога.
Творчество Введенского, как и всех нас, пятерых, поэтически-философско-религиозное. Значит, и к Введенскому применим неприличный вопрос. Глупые, тупые и злые люди убили Введенского, мы не можем уже задать ему этот вопрос. Да он и не задается так просто и прямо. Кьеркегор говорил: в религиозных вопросах невозможна прямая речь, только косвенная. Может, вообще алогизм только формально высказывается прямо, например в одновременном утверждении двух контрадикторно или контрарно несовместных предложениях. Но сейчас меня интересует другое. Введенский был человек, то есть ел, пил, спал, зарабатывал деньги писанием большей частью ненужных ему детских стихотворений, ухаживал за женщинами, играл в карты. И тот же самый Александр Иванович Введенский вдруг отрешался от всех дел, практических и интересных, усаживался в углу на стуле, подложив на колени книгу, на книгу бумагу — потому что своего письменного стола у него никогда не было, — и писал стихи, за которые ему не только не платили деньги, наоборот, за которые тупые и злые люди убили его. Но ведь это тот же самый Введенский. Правда, еще Пушкин сказал: «Пока не требует поэта…» Но сейчас наступили времена, когда для нас особо живо экзистенциально встал неприличный евангельский вопрос: веришь ли в то, во что ты утверждаешь, что веришь? Введенский в своих вещах и, я думаю, все мы все время задаем этот неприличный вопрос, и прежде всего самим себе.
Вопрос этот задается в самой глубине человека, в глубине, которую и он сам точно не знает, только подозревает, и когда он задается другому человеку или обращается к его творчеству, то предполагается проникновение в самую тайную, скрытую глубину его, в его, как говорил Кьеркегор, абсолютную субъективность. Никакая самая искренняя исповедь не может вполне вскрыть абсолютную субъективность, часто эта исповедь бывает лживой искренностью или искренней ложью; абсолютная субъективность очень часто не в том, что говорит человек, а скорее в том, чего он не договаривает, что желает открыть, но еще больше скрыть, что открывает скрывая и скрывает открывая. Это тайна, данная каждому человеку, и как тайну ее можно открыть только скрывая и скрыть открывая. Но я уже давно перешел к четвертой стадии понимания.
IV. Понимание абсолютной субъективности, поскольку это связано с наиболее глубокими сокровенными религиозными вопросами, и непосредственно не зависит от теологических догматов, но выходит за пределы теологии, я назвал метатеологией. Очевидно, что метатеология может включать в себя и теологические, и антропологические, и теономно- или теоцентрически-антропологические вопросы. Поскольку в применении к литературе я не знаю такого учения — лакейские подглядывания увлечений, связей и романов известных писателей не имеют никакого отношения к метатеологии, — я приведу только некоторые примеры.
Я слышал самые неожиданные и глупые толкования произведения Введенского «Куприянов и Наташа». Я хорошо знаю и люблю эту вещь и всегда понимал ее как философско-теологический трактат, изложенный в поэтической форме. Т. Липавская, первая жена Введенского с 1920 по 1931 год, дала мне ключ к более глубокому пониманию этой вещи. Она сказала: Введенский был безбытным, эта вещь — прощание с бытом и чувством. Теперь я иду дальше в этом же направлении. В личной жизни до 1931 года Введенский не отказывался от эмоций, от чувства. В то же время и тогда у него уже было некоторое расхождение с жизнью, с бытом. Он никогда, кажется, не имел своего письменного стола. Он сам говорил, что любит жить в гостиницах, то есть не дома. Он не имел дома, «не имел, где приклонить голову», по существу, и тогда уже он в жизни был путником — viator. И все же в интимной жизни он был и нежен, и ревнив, у него было чувство. В стихах же того времени отношение к чувству ироническое: остранение и отстранение. Только после 1931 года, то есть после разрыва с первой женой, у него начинает появляться поэтический интерес к чувству. В «Куприянове и Наташе», написанной, по всей вероятности, в 1931 или 1932 году, он прощается с чувством, но это прощание с чувством в жизни было одновременно пробуждением поэтического интереса к чувству, воплощенного в более поздних произведениях: «Очевидец и крыса», «Четыре описания», «Ковер Гортензия»…
1969