«Спасти нас может не бог, а растение»
Фрагмент книги Майкла Мардера «Растительное мышление»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Майкл Мардер. Растительное мышление. Философия вегетативной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. Перевод с английского Дениса Шалагинова. Cодержание
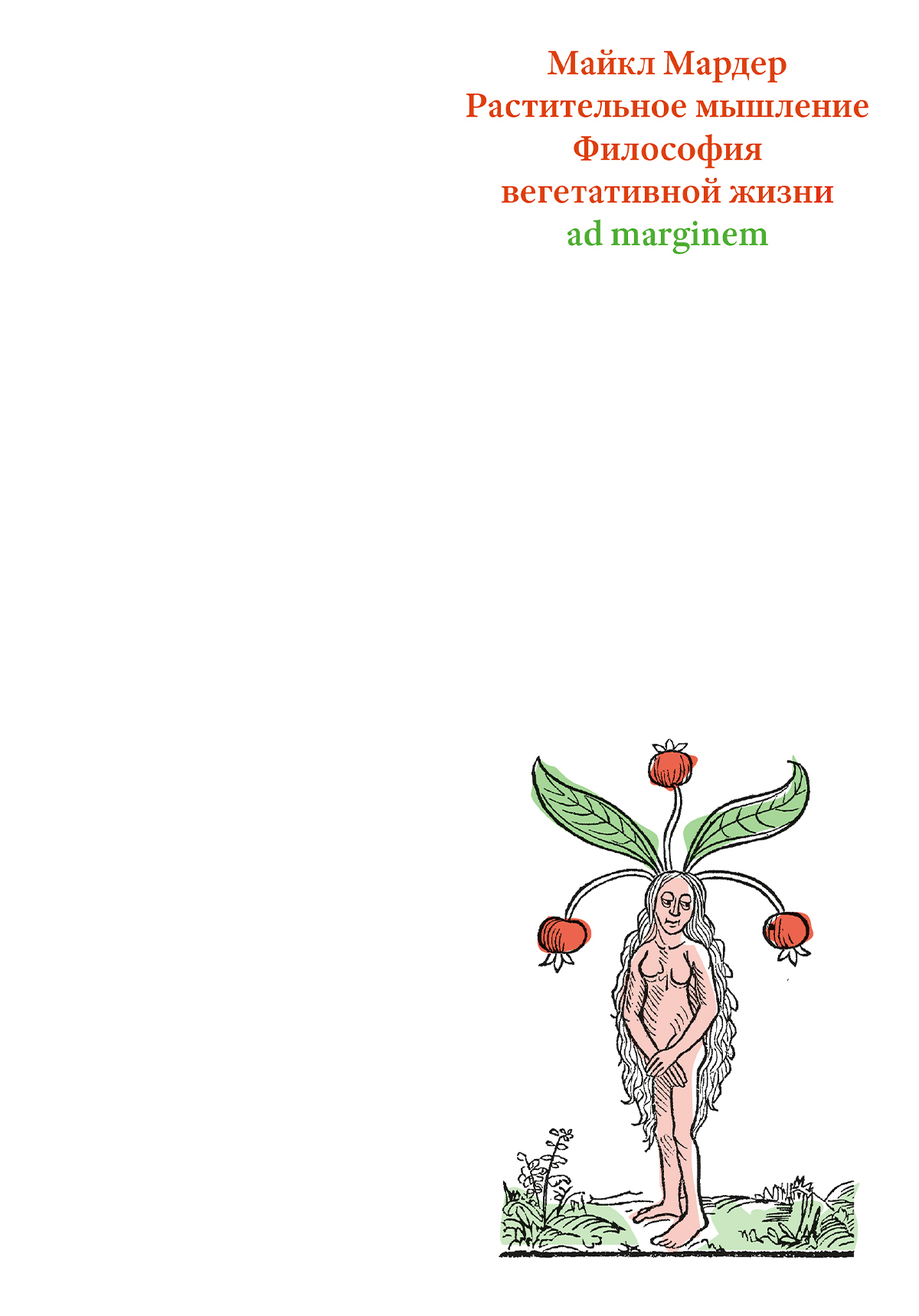
Растительное бытие вращается вокруг не-идентичности, понимаемой как неотделимость растения от среды, в которой оно дает всходы и растет, и как его образ жизни, лишенный четко очерченной автономной самости. Пытаясь раскрыть категории вегетативного бытия в терминах растительного мышления, мы не можем проигнорировать эту важную грань онтофитологии.
Наиболее очевидным симптомом не-идентичности растения является его беспокойство, отражающее пластичность и нестабильность самой жизни: его постоянное стремление к другому и становление-другим в росте и воспроизводстве, а также в метаморфозе этих вегетативных качеств в человеческие и животные потенциальности. Приписывать статичную идентичность способу бытия и мышления растений — значит игнорировать саму их витальность. Но именно это, похоже, и происходит в корреляции, которую Ницше проводит между неподвижностью растений, которой, как он полагает, исчерпывается их способ бытия, и идентитарным мышлением, вдохновленным ими и якобы предвещающим формально-логический подход к миру.
Во фрагменте из «Человеческого, слишком человеческого» под заголовком, который не предвещает ничего хорошего — «Основные вопросы метафизики», — Ницше пишет: «Для растений обычно все вещи неподвижны, вечны, и каждая вещь тождественна себе. От периода низших организмов человек унаследовал веру в то, что бывают одинаковые вещи... <...> Исконная вера всего органического с самого начала гласит даже, возможно, что весь остальной мир един и неподвижен». Это утверждение, скорее всего призванное скандализировать логиков предположением, что они являются прямыми наследниками веры, преобладающей у «низших организмов», основывается на двойном вытеснении вегетативной темпоральности: помимо вменения растениям неспособности ощущать течение времени, Ницше оказывается невосприимчивым к их постоянной изменчивости, которую до него подчеркивали Гёте и Гегель. С точки зрения Ницше, человек в состоянии неподвижности и невосприимчивости временно безразличен к миру и «не замечает в нем никаких изменений», тогда как растения постоянно остаются невозмутимыми, существуя так, словно их среда неизменна и «вечна».
В связи с этим мы могли бы задать Ницше эмпирический вопрос: замечает ли растение изменения в мире, когда его биосфера резко меняется, например, в результате засухи, загрязнения токсичными веществами почвы, в которой оно укоренено, нашествия насекомых или действия других катализаторов? Творческое взаимодействие любого живого существа и окружающей среды, с одной стороны, исключает такую абсолютную невосприимчивость, а с другой — утверждает вегетативное мышление в качестве лишенного идентичности и охватывающего растение вместе с его биосферой. Если логическая вера в одинаковые или самотождественные вещи и правда проистекает из предыстории человека, то ее источник следует искать в том, что предшествовало растительности, — в негибком, неорганическом мире минералов, но даже там эта вера не была бы полностью оправданной.
Мы можем простить или, по крайней мере, понять теоретическое насилие Ницше над растениями, обратившись за помощью к определению Понжем растительных существ как «живых кристаллов», намекающему на их онтологическую близость к неорганическому царству и в то же время его явную модификацию. Эта ограниченная близость растений — на уровне собственно растительного бытия — к миру минералов не может не оказать существенного влияния на эпистемическую среду вегетативной жизни. Чтобы оценить сложность ницшеанской «биологии влечения к познанию», необходимо привести краткий фрагмент из «Воли к власти» в дополнение к тому, который я взял из «Человеческого, слишком человеческого». В 1885 году Ницше пишет в стенографической манере: «„Мышление“ в примитивном (доорганическом) состоянии — это выявление форм, как в кристалле. — Главное в нашем мышлении — уложить новый материал в старые схемы (= прокрустово ложе). Уравнивание нового». Стабильность и идентичность, которые ранее приписывались растительному мышлению, здесь однозначно отнесены к доорганическому «выявлению форм», сохраняющемуся в человеческом мышлении в виде кантианских незыблемых категорий и форм созерцания, которым всякий новый опыт должен так или иначе соответствовать.
Если растение есть «живой кристалл», то в своем бытии, как и в своем мышлении, оно оживляет это доорганическое наследие, приводя в движение — то есть деформализуя, разрушая или деконституируя — негибкие «старые схемы». Событие нового, несводимого ни к предыдущему опыту, ни к пустым трансцендентальным формам для его обработки, впервые заявляет о себе в растительном мышлении, разрушающем прокрустово ложе формальной логики и трансцендентальных априорных структур — тех идеальных стандартов, которым не может полностью соответствовать ни одно живое существо. Хоть и находясь между доорганическим прото-мышлением и «нашим мышлением» (которое впитало анахроничные методы, если не выводы, последнего), растительное мышление превосходит последующие когнитивно-эволюционные разработки в той мере, в какой, вместо «уравнивания нового» и старого, оно способствует наступлению события, непредвиденного, ибо несводимого к схемам прошлого. Оно означает мышление, которое впускает различие в свою сердцевину и работает посредством этого самого различия, что согласуется с онтологией растений.
Неантропоцентрическое мышление различия, более не вписывающееся в схемы идентитарной мысли, может быть не распознано в качестве такового; оно может утратить привычные очертания эпистемических систем, выстраивавшихся на протяжении истории философии. Такое непризнание или нераспознавание не случайно. Зеркально отражая гетерономию растений, их онтологическую зависимость от чего-то иного, чем они сами — например, от света, — растительное мышление настолько тесно переплетено с другим (то есть с не-мышлением), что не поддерживает самотождественности в качестве мышления. Оно отвергает закон непротиворечия в своих содержании и форме, так как, одновременно мысля и не мысля, отнюдь не противопоставляется своему «другому».
К этой же мысли пришел и Аристотель в «Метафизике» — «Если у него нет никакого мнения, а он только одинаково [homoiōs] что-то полагает и не полагает, то какая, в самом деле, разница между ним и растением?», — где повторил оскорбительное сравнение с растением того, кто не следует принципам формальной логики, сделанное ранее в тексте. С точки зрения Аристотеля, не отличается (homoiōs) от растения тот, кто в одинаковой степени (homoiōs) мыслит и не мыслит; стирание различия между «А» и «не-А», то есть de facto нарушение закона непротиворечия, отменяет онтометафизическое различие между человеком и растением. Эпистемологическая реальность задает онтологическое существование, так что характер мышления определяет модус бытия задолго до появления немецкого идеализма. Когда некоторые способы мышления оказываются неподобающими для существа, которое их придерживается, они вмешиваются в его онтологический состав, внося коррективы и заставляя нас, кем или чем бы мы ни были, соответствовать тому, как мы мыслим. Человек, мыслящий как растение, буквально становится растением, поскольку разрушение классического logos’а уничтожает то, что отличает нас от других живых существ. Отвечая на призыв Делёза и Гваттари «следовать за растениями», мы займемся непочтительным растительным мышлением, которое выведет нас на тропу становления растением.
Справедливости ради, растительноподобный человек — не тот, кто больше не думает, а (если сформулировать тоньше) тот, кто думает, не следуя предписаниям формальной логики, а значит, в некотором смысле, не думая. Давайте попробуем свыкнуться с мыслью, что мышление — не прерогатива субъекта, или человека, и что, помимо изменения формы мысли (которая становится неотделимой от своей противоположности — не-мысли) и изменения ее содержания (которое включает в себя противоречия), «не-идентичное мышление» указывает на свободу от субстантивной и самозамкнутой идентичности самих мыслителей. Вместо кантовского трансцендентального синтеза «я мыслю», который якобы сопровождает все мои представления, растительное мышление утверждает «оно мыслит» — гораздо более безличную, не-субъектную и неантропоморфную агентность. Но кем или чем является мыслящее «оно»?
Мыслящее «оно» есть растение, существо, чья самость, согласно формулировке Гегеля, пребывает в другом, к которому оно стремится. Поэтому всякий раз, когда оно мыслит, то, что мыслит, есть оно само и в то же время его другое, то, чем оно не является. Как это возможно? Ниже я хотел бы рассмотреть три модальности вегетативного «оно мыслит» у философов ХХ века Бергсона, Грегори Бейтсона и Делёза.
Бергсоновская «Творческая эволюция» в целом расширяет сферу интеллекта, перенаправляя его от самотождественных «фактов», которые он ищет, к жизненным процессам, и одновременно ограничивает эту сферу одним из многих случаев активной эволюционной изобретательности. Как и во всей своей философии, Бергсон поощряет мышление, которое мыслит вместе с жизнью, а не против нее. Независимо от того, относится ли это к растению или человеку, «оно мыслит» указывает в направлении мысли самóй жизни, деформализующей деятельности, которая, будучи включенной в категории понятийного мышления, разрушает их изнутри: «Тщетно пытаемся мы втиснуть живое в те или иные рамки. Все рамки разрываются: они слишком узки, а главное, слишком неподатливы для того, чтó мы желали бы в них вложить». Растянутое на прокрустовом ложе логики, живое невозможно уравнять с формой и содержанием наших когнитивных шаблонов; мышление жизни само по себе есть мышление не-идентичности, тревожащее человеческий интеллект, который, предоставленный на свое усмотрение, «чувствует себя привольно, пока он имеет дело с неподвижными предметами, в частности с твердыми телами», так что «наши понятия сформировались по их образцу», а «наша логика есть по преимуществу логика твердых тел». Бергсон оказывается в неявном согласии с Ницше: кристаллическая, кристаллизованная структура интеллекта, окаменевшая на вершине философии модерна в кантовском «я мыслю», есть мертвая мысль, но эта мысль раскрепостится, оживет и превратится в «оно мыслит», как только попытается «переварить» жизненные процессы, не упокоенные в окончательной самотождественности.
Жизнь, мыслящая через нас и(ли) через растение, далека от недифференцированного потока становления, вихря имманентности, сметающего все в свою гомогенную смесь. Живое мышление жизни в каждом случае соответствует отношению данного организма к его среде. Роль нашего интеллекта, сформулированная таким образом, заключается в том, чтобы «обеспечить полное включение нашего тела в окружающую среду», не потакая эгоистической адаптации любой ценой, а создавая единый ансамбль этого тела и его мира. Философский смысл бергсоновского «включения» точен, поскольку вместо того, чтобы повторять традиционную эволюционную мантру «выживает сильнейший», оно восходит к древнегреческому понятию «включения» как соответствия, настройки и в конечном счете справедливости.
То, что соответствует жизни растения в окружающей среде и формирует растительное мышление, практикуемое растением и его другим (то есть его средой) как единым целым, не совпадает с тем, что соответствует интегрированному мышлению человека и его жизненного мира, хотя, благодаря роли растительной души в обеспечении общей жизни, можно ожидать определенных пересечений между этими двумя видами мышления. Жизнь среди органической природы требует непрерывной реконфигурации, настраивания и перестраивания этого соответствия, поскольку неизменные и застывшие понятия полезны разве что для нашей ориентации в среде, полностью изготовленной из стали и бетонных блоков. Растительное мышление выполняет эту функцию для растения, приспосабливая его к среде, то есть к самому себе как другому. Вопрос об экологической справедливости, понятой в смысле античного dikē (которое, как показывает Хайдеггер в своем прочтении Анаксимандра, одновременно обозначает сочинение или чин), таким образом, очерчивает горизонты растительного мышления, сочетая растение и его другого.
В программном тексте под названием «Шаги в направлении экологии разума» Бейтсон подчеркивает эпистемические последствия этого сочетания, которое, если додумать его до логического завершения, подразумевает, что «единицей выживания <...> является система „организм плюс окружающая среда“». Мыслящее «оно» одновременно больше и меньше, чем «я». Больше, потому что оно не способно мыслить посредством простого «я», оторванного от экологической составляющей единицы выживания. Меньше, потому что эта единица не настолько индивидуированна, автономна, отдельна, как субъект мышления. В то время как растение полностью встроено в холистический модус мышления и бытия, о котором говорит Бейтсон, человек утверждает свое превосходство перед средой, вбивая клин в единицу выживания, к которой причастен. Вытекающее из этого бесчинство, или разлад, предвещает, помимо катастрофической экологической несправедливости (adikia), невозможность дальнейшего существования организма; в тот самый момент, когда он утверждает и прославляет свою уникальную силу и автономию, он подрывает себя путем притеснения и уничтожения другого внутри и вне себя. На языке философии модерна это называется «отчуждение»: онтологическое состояние, которое изобилует пагубными эпистемологическими последствиями, включая безумие. Если среда, вместе с которой вы составляете единицу выживания, — это озеро Эри, и, если «вы решаете, что хотите избавиться от отходов человеческой жизнедеятельности и озеро Эри будет для этого подходящим местом», «озеро Эри с[ходит] с ума [и] его сумасшествие инкорпорируется в бóльшую систему вашего мышления и опыта».
Перед лицом безумия трансцендентной мысли растительное мышление, имманентное среде, в которой оно процветает, становится указателем или конкретным нормативным идеалом для бейтсоновской версии «оно мыслит». Это позволит нам, среди прочего, по-новому взглянуть на знаменитое изречение Паскаля: «Человек — всего лишь тростинка, самая слабая в природе, но это тростинка мыслящая». Мышление этой тростинки как раз и делает ее слабой, ослабляет ее неразрывную связь со средой, побуждает причинять вред себе и окружающему миру. Но мы можем представить себе другой вид слабости, который был бы связан с мышлением человеческого тростника и возник бы в результате осознания его неустойчивости, хрупкости его среды и хрупкости самой конъюнкции с ней («плюс») в сердце бейтсоновской «единицы выживания». Это осознание сделает нас на шаг ближе к постметафизической мысли. Смягчая чрезмерное отделение человеческого разума от контекста, в который он встроен, неоппозициональное растительное мышление, таким образом, будет призвано защищать разумность нашей мысли и поддерживать ее настроенной на наш жизненный мир. Выступая гарантом экологической справедливости, вегетативное «оно мыслит» будет ослаблять смертоносные тенденции человеческого «я мыслю», пренебрегающего неиндивидуированными основаниями мысли и контекстом, неотъемлемым от ее формализации. Перефразируя Хайдеггера: спасти нас может не бог, а растение.
Делёз и Гваттари, которые в значительной мере опирались на философии как Бергсона, так и Бейтсона, тоже отдают предпочтение вегетативной гетерономии и гетероаффекции в растительном мышлении. Они пишут: «Мудрость растений: даже когда они укоренены, всегда есть внешнее, где они создают ризому с чем-то еще — с ветром, с животным, с человеком (а также аспект, благодаря которому животные сами создают ризому, и люди, и т. д.)».
Третьей конкретизацией «оно мыслит» является ризома, которая не противостоит своему другому, а дополняет его, выполняя также работу растительной души и пересекая метафизические различия между растениями, животными и людьми. Ризоматическое мышление — мышление экстериорности в экстериорности и в качестве экстериорности, неразрывная связь с «внешним», с чем-то другим, включая части неорганической природы, других живых существ и продукты человеческой деятельности. Его не-идентичность у Делёза и Гваттари воспроизводит реляционный характер бейтсоновских экоментальных систем и бергсоновское «включение» тела в окружающую среду, так что организм и элементы биосферы, к которой он принадлежит, образуют узлы в никогда не завершенной сетке ризомы. Ризоматическая мысль, или собственно растительное мышление, имеет место во взаимосвязях между узлами, в «линиях утекания», по которым передаются и распространяются различия, линиях, выводящих эти узловые точки за пределы самих себя, по ту сторону фиктивной оболочки овеществленной и самодостаточной идентичности. Вегетативное «оно мыслит» отвечает не на вопрос «Кто или что мыслит?», а на вопрос «Когда и где происходит мышление?», потому что это мышление, неотделимое от места своего прорастания, возникает из встроенности растения в среду и к ней возвращается. Всякая радикально контекстуальная мысль есть достойный наследник вегетативной жизни, которая продолжает процветать, разрастаясь среди прочего в тех текстах, что обнажают и раскрывают свои собственные пределы; герменевтика, историзм, имманентная критика и деконструкция — методологические наименования этого наследства.
Предварительный ответ на вопрос о проживаемых пространственно-временных условиях мысли заключается в том, что растительное мышление имеет место, (1) когда предполагаемая самотождественность «субъектов» и «объектов», населяющих данную среду, отступает, позволяя ризоматическому ассамбляжу нарастать, выходить на передний план, активироваться за счет распространения различия среди его вариативных узлов, и (2) где промежутки и связи, линии коммуникации и зазоры между участниками ассамбляжа превалируют над тем, что их разграничивает. Если этот образ мысли вызывает в памяти синапсы, срабатывание которых объясняет нейронную активность мозга, то мы должны заключить, что мозг — это неврологическая разработка децентрированного вегетативного «оно мыслит»: «Прерывистость клеток, роль аксонов, функционирование синапсов, существование синаптических микрощелей, перескакивание каждого сообщения через эти щели делают мозг множественностью, погруженной в свой план консистенции или в свою глию... <...> У многих людей в голове посажено дерево, но сам мозг — это скорее трава, нежели дерево». Когда «оно мыслит», оно делает это неиерархически и, как растущая трава, держится ближе к земле, к экзистенции, к имманентности того, что «здесь внизу». Соревнующиеся вегетативные модуляции мозга, переносящие на нейронную организацию либо структуру перевернутого дерева, либо горизонтальный план травы, в любом случае в долгу перед растительным мышлением, которое вызывает не-идентичность человеческой мысли, побуждая ее лепить себя по подобию того, чем она не является, а именно растения и его мышления. В основе субъекта, провозглашающего «Я мыслю», лежит бессубъектное вегетативное «оно мыслит», одновременно подкрепляющее и дестабилизирующее мысль этого «я».