Советско-монгольское боевое братство
Из книги «Память о Второй мировой войне за пределами Европы»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Память о Второй мировой войне за пределами Европы: коллективная монография. Под редакцией А. И. Миллера и А. В. Соловьева. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2022. Содержание
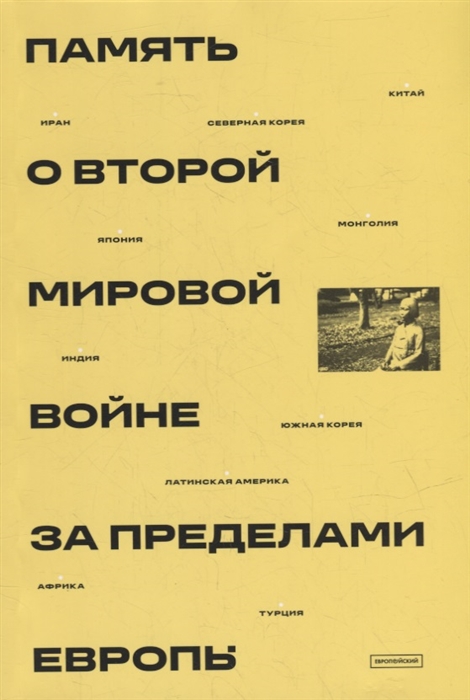 Отношение монгольского общества к событиям Второй мировой войны непосредственно связано с ключевой ролью советских военных в создании монгольских вооруженных сил. Сотрудничество революционного правительства Монголии с Красной армией начинается с совместного изгнания боевых частей Романа Унгерна и создания Монгольской Народно-революционной армии (МНРА) по образу и подобию армии Советской России. Монгольские военные проходят учебу в военных учебных заведениях СССР, армия получает современное вооружение и становится элементом общей системы защиты СССР и Монголии. С самого начала МНРА получила поддержку советских военных и политических инструкторов, что во многом облегчало конвергенцию монгольской и советской системы обороны и быструю эволюцию МНРА от преимущественно кавалерийских частей до современной армии, располагающей авиацией, бронетехникой и артиллерией. После японской оккупации Северно-Восточного Китая главным вызовом для безопасности Монголии становится деятельность квантунской армии в приграничных районах, что было связано как с отсутствием демаркации границы между Монголией и вошедшей в Маньчжоу-Го Баргой (сегодня Хулунбуир), так и с постоянным давлением японских частей на приграничные районы. В марте 1936 г. между Монголией и СССР подписывается «Протокол о взаимопомощи», создающий легальные рамки для дислокации советских частей в приграничных районах. Битва под Халхин-Голом началась с небольших приграничных стычек и разрослась в масштабные боевые действия, продолжавшиеся с весны по осень 1939 г. Непосредственными причинами эскалации конфликта были попытки уничтожения монгольских приграничных застав с целью вытеснения монгольских войск на западный берег реки Халхин-Гол. Применение авиации и бронетехники со стороны Японии привело перерастание приграничных инцидентов в полномасштабный конфликт с вовлечением трех армий, в рамках которого была проведена 101 операция с использованием всех видов военной техники. Совместная победа под Халхин-Голом стала символом способности МНРА отстоять независимость и до сих пор является важным элементом национальной памяти. С самого начала Великой Отечественной войны Монголия оказывала помощь СССР в гигантских масштабах при полной поддержке населения и массовой вовлеченности в поддержку Красной армии. 10 августа 1945 г. МНР объявила войну Японии, и вооруженные силы Монголии участвовали в Маньчжурской стратегической наступательной операции. В Монголии она получила название «Освободительная война».
Отношение монгольского общества к событиям Второй мировой войны непосредственно связано с ключевой ролью советских военных в создании монгольских вооруженных сил. Сотрудничество революционного правительства Монголии с Красной армией начинается с совместного изгнания боевых частей Романа Унгерна и создания Монгольской Народно-революционной армии (МНРА) по образу и подобию армии Советской России. Монгольские военные проходят учебу в военных учебных заведениях СССР, армия получает современное вооружение и становится элементом общей системы защиты СССР и Монголии. С самого начала МНРА получила поддержку советских военных и политических инструкторов, что во многом облегчало конвергенцию монгольской и советской системы обороны и быструю эволюцию МНРА от преимущественно кавалерийских частей до современной армии, располагающей авиацией, бронетехникой и артиллерией. После японской оккупации Северно-Восточного Китая главным вызовом для безопасности Монголии становится деятельность квантунской армии в приграничных районах, что было связано как с отсутствием демаркации границы между Монголией и вошедшей в Маньчжоу-Го Баргой (сегодня Хулунбуир), так и с постоянным давлением японских частей на приграничные районы. В марте 1936 г. между Монголией и СССР подписывается «Протокол о взаимопомощи», создающий легальные рамки для дислокации советских частей в приграничных районах. Битва под Халхин-Голом началась с небольших приграничных стычек и разрослась в масштабные боевые действия, продолжавшиеся с весны по осень 1939 г. Непосредственными причинами эскалации конфликта были попытки уничтожения монгольских приграничных застав с целью вытеснения монгольских войск на западный берег реки Халхин-Гол. Применение авиации и бронетехники со стороны Японии привело перерастание приграничных инцидентов в полномасштабный конфликт с вовлечением трех армий, в рамках которого была проведена 101 операция с использованием всех видов военной техники. Совместная победа под Халхин-Голом стала символом способности МНРА отстоять независимость и до сих пор является важным элементом национальной памяти. С самого начала Великой Отечественной войны Монголия оказывала помощь СССР в гигантских масштабах при полной поддержке населения и массовой вовлеченности в поддержку Красной армии. 10 августа 1945 г. МНР объявила войну Японии, и вооруженные силы Монголии участвовали в Маньчжурской стратегической наступательной операции. В Монголии она получила название «Освободительная война».
Исследования памяти о мегасобытиях, транслируемых тем или иным образом на следующие поколения, связаны, как правило, с непосредственным опытом сообщества. Основной проблемой в этом случае является репрезентация понятного события, прежде всего вопросы: что и как будут помнить последующие поколения и какое влияние применяемые формы трансляции памяти окажут на будущее сообщества. С этого ракурса вопросы репрезентации являются ключевыми не только в прагматической перспективе границ толерантности к альтернативным точкам зрения, но и к аксиологическим установкам сообщества, непосредственно связанным с оценками травматического события. Резкая политизация прошлого, связанная с исчезновением будущего как проекта и усилением роли исторической аргументации в политике национальных государств, привела не только к войнам памяти, но и к переносу публичных форм прошлого в центр внутренней и внешней политики. Кроме того, следует отметить и резкие изменения в способах переживания прошлого. Величие подвига и героизма предыдущих эпох постепенно вытесняет величие травматического опыта — войны памяти превращаются в бесконечное многоголосие взаимоисключающих рассказов про собственные травмы. Ситуацию усиливают и вполне современные процессы создания новыми государствами собственных исторических нарративов и культурных союзов, резко контрастирующие с массовым опытом населения и привычными формами его репрезентации. Культурная память о Второй мировой войне является хорошим примером описанных процессов в постсоциалистических странах. Связывая вопросы легитимности национальных политических форм и социалистических институтов, дебаты о Второй мировой войне выходят далеко за рамки непосредственных исторических событий, определяя критерии политической лояльности, сострадания и в некоторых случаях даже национальной принадлежности. В этой перспективе память о Второй мировой войне становится действительно мегасобытием, репрезентации которого определяют политическую жизнь и «опыт» выбора между врагами и друзьями. В репрезентации мегасобытия последствия явно важнее причин, холодная война и постсоциалистический период во многом определяют аксиологические оценки и возможности репрезентации.
Как было сказано выше, память о Второй мировой войне в Монголии существенно отличается от памяти соседей как с запада, так и с востока. С одной стороны, как вторая социалистическая страна в мировой истории, связанная крепкими узами с СССР, Монголия была максимально вовлечена в переживание событий Второй мировой войны в рамках советской перспективы. С другой — в отличие от Китая и Кореи, территория Монголии не была затронута напрямую военными действия, и травматический опыт оккупации и внешнего террора практически отсутствует в национальной памяти. Как и США, МНР стала участником коалиции победителей без опыта войны на своей территории. Как и в США, географическая локализация принесла одновременную вовлеченность на азиатском и западном направлениях, что резко отличает монгольский случай от стран Восточной Европы. Кроме того, победа коалиции означала для Монголии резкое изменение международного статуса с оккупированной китайской территории на социалистическое государство, признанное (в большей или меньшей степени) обоими китайскими правительствами, что сделало путь к независимости необратимым. Это резко контрастирует с опытом Прибалтики, Польши, Венгрии и Чехословакии, где социалистические формы правления рассматриваются как неудовлетворительный результат послевоенного раздела мира, а не форма национального государства. В этой перспективе Монголия является уникальным примером массового опыта переживания события при практически полном отсутствии опыта массового участия в событиях на уровне как местных жителей, так и комбатантов. Мы назвали этот способ переживания события дистанционной консолидацией памяти, подчеркивая тем самым одновременное сочетание отдаленности и вовлеченности монгольского общества в память о Второй мировой войне. Следует отметить, что события Второй мировой войны в монгольской перспективе становятся непосредственно связанными с мегапроцессом пути к независимости (историософская суть социализма для многих монголов) и построения собственного государства. И несмотря на неизбежную популярность постколониальных интерпретаций и монголоцентрических интерпретаций истории, монгольский опыт связывает понятия, как правило, разобщенные в других частях постсоциалистического мира.
Так, монгольская модель памяти включает социализм как путь к независимости, дружбу с СССР как путь к собственному государству, зависимую позицию и уничтожение традиционной культуры. В этой перспективе память о Второй мировой войне является сложным узлом, соединяющим не только все противоречия монгольской истории, но и представляющим консенсус монгольского общества по поводу сложного баланса отношений с СССР.
Путь Монголии к независимости неразрывно связан с глобальными процессами: кризисом Империи Цин и, как следствие, «открытием» Внутренней Азии восходящими державами региона (Российской империей и Императорской Японией). Одновременно происходит «открытие» ранее изолированной Внешней Монголии для Китая, что означает приток людей, капиталов и институтов, ставящих под сомнение, казалось бы, вечные ценности кочевого общества. В этой перспективе забытая концепция монгольского марксиста Ширендыба хорошо вписывается в сегодняшние представления о глобальном измерении встречи кочевого сообщества Внутренней Азии с капиталом и империалистическими игроками. Земли Маньчжурии и Монголии перестают быть пространством суровых духов местности, драконов и сакральных мест, превращаясь в удобные и неудобные места для железнодорожных путей, залежей угля и пространством для аграрной колонизации. Конечно, эти языки описания приходят намного раньше: российские и в меньшей степени китайские и японские экспедиции со второй половины XIX в. ведут исследование Внутренней Азии, но их влияние опосредовано отдаленностью, правами собственности и контролируемой кочевниками системой караванных путей. Сейчас ситуация меняется кардинально. Одновременное внимание имперских центров вводит сложную сеть экстерриториальных зон, номинально находящихся под постепенно возрастающим контролем маньчжурской династии, но в реальности в полном подчинении России и Японии.
Включение Маньчжурии в зону российского влияния приводит к конфликту с Японией, который заканчивается унизительным поражением, потерей зон влияния и переключением внимания на Внутреннюю Азию. Россия и Япония делят монгольские земли на зоны влияния, правда все время пытаясь проводить политику не на «своей» территории. Кочевники Внутренней Азии оказываются не только заложниками конкуренции Китая, России и Японии, но и превращаются во временного субъекта локальной политики. Военные миссии поддерживают своих людей и защищают их от ответственности, дают оружие, деньги и помогают создавать основы новых государственных проектов. То, что модерн имитационного колониализма приходит в военной форме, во многом определяет будущие модели фронтирной государственности, организованные военными при прямой поддержке милитарных структур.
Отсутствие легкого пути к независимости и современности во многом объясняет приоритетную роль внешнего патрона, гарантирующего безопасность и доступ к капиталу и знаниям и требующего взамен лояльности и поддержки на виражах постоянно меняющейся международной конъюнктуры. В этой перспективе, выбирая между марксистскими, национальными и постколониальными способами описания ситуации можно отметить ключевую роль периферийного капитализма, смешивающего внешнее и внутреннее и не оставляющего альтернативы для милитарных версий локальных модернизаций.
Политика Цинов по отношению к монголам во многом определялась системой управления российско-китайской границей. С одной стороны, это приводило к милитаризации границы, с другой — к попыткам жесткого контроля над Монголией. Встреча двух аграрно-бюрократических империй на монгольских землях во многом сделала монголов заложниками российско-китайских отношений. Политика Цинского правительства по отношению к монголам и тувинцам приводила к обратным результатам — их выталкиванию в сторону России. Причинами такой ситуации были агрессивная политика китайских купцов, страх перед китайской колонизацией и не всегда оправданные надежды использовать Россию как инструмент легитимации суверенитета.
Несмотря на достаточно высокую привлекательность миграции в Российскую империю для китайских монголов и тувинцев, следует заметить, что политика по отношению к российским монголам тоже не была лишена противоречий, связанных с угрозой сокращения земельного фонда при увеличении числа переселенцев, с ограничениями местного самоуправления, и с политикой русификации. Постепенно по обеим сторонам границы появляются идеи политической автономии (под протекторатом России или Японии) как единственной формы национального самосохранения. Монголы снова появляются на арене истории, определяя судьбу региона. На огромном пространстве от Тибета до Нерчинска возникает большое количество государственных и квазигосударственных проектов, основной спецификой которых была ключевая роль кочевников и попытка создания особых местных моделей современной государственности с опорой на третью силу. Неизбежный протекторатный характер государственного строительства часто был односторонне оценен в историографии как простая манипуляция Великобритании, Японии или России. Следует заметить, что такой подход не совсем справедлив, так как, кроме идеологической перспективы, несет опасность игнорирования практик индигенизации современных форм государственности и реальных примеров поиска собственных путей к современности. Фронтирное государствo в силу демографической, экономической и военной асимметрии с самого начала является заложником геополитической обстановки и возможности протекторатной поддержки со стороны третьей силы. Это обусловило резкое возрастание роли военных и подчинение политики приоритету реализации национальной идеи. Несмотря на ярко выраженный национальный аспект, следует заметить ведущую роль буддийских иерархов в государственном строительстве.
Именно ламы-перерожденцы становятся в центр политического процесса и оказываются инициаторами новых моделей суверенности. Наиболее известной является деятельность XIII Далай-ламы, целью которого был последовательный поиск внешнего протектората над Тибетом с целью достижения независимости от Китая. В 1911 г. верховный лама Внешней Монголии объявляет независимость от Китая в целях «защиты веры и расы» и принимает индийский королевский титул «многими возведенный». Даже в Туве, несмотря на значительно менее выраженный вес буддийских институтов, именно Камбо Лама Лапсон Чамза являлся наиболее последовательным проводником поиска полного отделения от Китая и Монголии (под российским протекторатом). Когда ветер политических перемен достиг Российской империи, похожие процессы начали происходить и в Забайкалье. Было провозглашено теократическое государство Ламы Цыденова, царя трех миров. Спецификой этой государственной структуры был не только уровень укорененности в религиозной доктрине, но и полный отказ от насилия и от сотрудничества с политическими конкурентами. В это же самое время при поддержке атамана Семенова на станции Даурия объявляется Монгольское федеративное государство со столицей в Хайларе под предводительством Ничи Тойн Богдо Мэндбаяра из Чжалайта. Вне советской зоны влияния определяющее влияние буддийского духовенства продолжается вплоть до конца Второй мировой войны. Духовной и административной столицей автономистского движения во Внутренней Монголии становится монастырь и храмовый комплекс Байлинмяо.
Главной и единственной успешной формой этой модели государственности было монгольское теократическое государство Богдо-Джебуцзундампы Хутухты VIII. Сегодня именно этот период (1911–1921) воспринимается и государством, и обществом как базовый для независимости Монголии. Ключевое участие российских дипломатов и поддержка независимости является важным элементом выбора Монголии северного соседа как гаранта независимости. Крушение Российской империи означало начало политической турбулентности в виде возвращения китайцев, втягивание в Гражданскую войну в России и, как следствие, возникновение на базе буддийской теократии второго социалистического государства в мире. Несмотря на то что формальный статус Монголии был урегулирован только в 1946 г., появление социалистического правительства обозначало стремительную советизацию кочевого общества и модернизацию по советским лекалам. История независимой Монголии неразрывно связана со структурированием советской дипломатией монгольско-китайских соглашений и возникновением советского блока. Этот факт обрекает постколониальную перспективу в монгольских исследованиях на постоянные оговорки или «заговаривание» темы через контрапункты постоянного повторения непроясненных категорий. Определенной проблемой этого подхода является факт его оторванности от массового сознания. Даже в текстах, написанных в традиционном каноне постколониальной перспективы, встречаются сетования, что большинство монголов не видит социалистический период в колониальных терминах и продолжает воспринимать монгольско-советские отношения в категориях асимметрического родства.
Следует отметить, что отказ от колониальной перспективы не означает отсутствия травматической памяти или несогласия с перегибами правительства МНР и его советских советников. Популярный в российских исследованиях мотив благодарной дружбы так же далек от массовых представлений монгольского общества, как и импорт постколониальной перспективы. Вместо этого мы имеем дело с монголо-центричным взглядом на общее прошлое, где в решениях СССР присутствуют ошибки, ненужные компромиссы с Китаем или недооценка страны и (особенно) ее культуры, что не меняет факта отсутствия отношений «метрополия — колония» или сознательной воли уничтожения монголов. Самым главным фактором является здесь локализация глобальных процессов и восприятие советской политики как усиление (или ослабление при «перегибах» или «компромиссах» с китайцами) объективного пути к независимости как сознательного выбора подавляющего большинства монголов.
В этой перспективе, признавая ключевую роль «старшего брата», монголы видят себя как действующего субъекта этих отношений, способного на правильный выбор. Монголия не только не является российской марионеткой (китайская версия), бесправным сателлитом (как часто видят российские исследователи) или жертвой объятий «старшего брата» (западный взгляд), но прежде всего субъектом исторического действия, создавшего единственный функциональный союз в регионе, закончившийся обретением полной независимости. Негативный опыт не исчезает, но снимается высшим приоритетом независимости. На все попытки применения постколониальной оптики монголы отвечают в лучшем случае равнодушием. Этот подход лишает их дееспособности и не учитывает трагической истории монголов Внутренней Монголии, тибетцев, уйгуров, путь которых к независимости был прерван.
Этот очень важный момент историософского прагматизма объясняет, почему в случае Монголии все параллели с другими странами бывшего Восточного блока обманчивы. Есть прерванная традиция собственной государственности, многолетнее советское присутствие, травма репрессий и потери культурного фонда, но при этом четкое понимание правильно выбранного пути и единственной возможности войти в XXI в. современным и независимым государством. Поэтому памятники советским вождям заменяются на постсоветские памятники, где присутствуют советские вожди, но в новой перспективе их заслуг для Монголии. Так, 9 мая 2017 г. Сталин гордо появился на памятнике Ялтинской конференции, рядом с Рузвельтом и Черчиллем. Никаких намеков на самые легкие формы в эинизации в Монголии нет и быть не может. Сама возможность этого памятника показывает отдаление Монголии от драм начала 1990-х и восприятие истории исключительно в национальном ключе.
Советское в этом контексте является одновременно своим и чужим. Своим — так как это был доминирующий язык модернизации, проникающий во все сферы монгольского общества, чужим — так как его целью (особенно после ухода поколения преданных коммунистов) всегда был путь к независимости. Результатом этого является дистанционная консолидация не только по поводу поддержки СССР, но и вообще советского опыта. Симпатия, не исключающая критики и травм, но с ясным пониманием базовой историософской цели драм социалистического периода
Память о войне. Дистанционная консолидация
Память монгольского общества о Второй мировой войне можно представить как несколько связанных, но разнонаправленных пластов. Прежде всего это память о памяти — привычки празднования Дня Победы и воспроизведения советских мифологем о Великой Отечественной войне. Во-вторых, это память участников, по понятным возрастным причинам практически переходящих в режим замещающей памяти. Это монгольские и советские участники боев под Халхин-Голом, монгольские солдаты, призванные в Красную армию из военных училищ в СССР, участники боев 1945 г. и ветераны из местного русского населения (которые, несмотря на советский стереотип врагов и белогвардейцев, массово ушли на фронт). Все эти группы по-разному представлены в культурной политике, их объединяет исключительно роль по расширению опыта неучастия и приближения событий Второй мировой войны как частично монгольских.
Следует отметить, что, несмотря на отсутствие 9 Мая в перечне официальных праздников, он продолжает массово отмечаться как память не только о войне, но и обо всем социалистическом периоде. В отличие от стран Восточной Европы в публичном пространстве практически отсутствует перспектива отчуждения праздника или связывания подвига СССР со сталинскими или даже внутренними репрессиями. На этом уровне праздник Победы остается воспроизводимой привычкой соучастия в мировом событии и плавно перетекает в другую перспективу — вклада Монголии в Победу. Здесь следует подчеркнуть намного большую заинтересованность государства в воспроизведении официальных нарративов о братской помощи, оказанной монголами Красной армии, которая становится уже не триумфом социалистического интернационализма, а важным аргументом монгольско-российских отношений. Культ Победы в российской исторической политике находит здесь неожиданную поддержку в виде манифестации общего усилия и лояльности союзника. Постоянные сравнения помощи бедной Монголии и богатых США должны подчеркнуть добровольную и практически непосильную ношу помощи «старшему брату». Массовая поддержка среди простых монголов освобождает эту перспективу от обвинений в обычном для сталинских сателлитов принудительном спектакле. Даже самые резкие критики неравных отношений с СССР практически не касаются этой темы. Дар остается даром.
Российские организации и связанные с ними граждане Монголии, как правило, организовывают открытые мероприятия, гармонично сочетающиеся с теплой монгольской памятью о памяти. Эта гармония обманчива. Монголия и Россия по-своему постепенно увеличивают значимость событий Второй мировой войны, но делают это в разных масштабах и с разными целями. Если для России события Второй мировой войны становятся мегасобытием мирового масштаба, включающим сложные вопросы оценки советского наследия и даже нового контекста сосуществования с травматическим прошлым (роль сталинского руководства в победе), то Монголия явно локализирует события Второй мировой войны как элементы монгольской истории и монгольского участия в общемировых процессах.
Мы имеем дело со спокойной дистанционной консолидацией общества, только частично поддержанной государством. Эта дистанционная консолидация имеет свою специфику. Она существует как бы параллельно с национальным нарративом трудного пути к независимости, полного неоднозначных поступков СССР по отношению к Монголии. Кроме очевидного принуждения к репрессиям и убийств членов правительства на территории СССР, кроме использования территории Монголии для создания советских лагерей, кроме неоднозначного опыта сосуществования с советскими военными базами, много вопросов вызывает трудное балансирование руководства СССР между чувствами монгольских и китайских коммунистов. С монгольской перспективы интересы Монголии не всегда защищались последовательно, по крайней мере непропорционально ее лояльности «старшему брату». Кроме того, следует отметить и растущую популярность постколониальной перспективы, во многом критической по отношению к мифологии верной дружбы и честного партнерства. Память о Второй мировой войне становится альтернативным рассказом, не конфликтующим, а дополняющим попытки коррективы социалистического опыта. Это память о дружбе «несмотря на» и память об участии в больших процессах. Почти полное отсутствие массового опыта участия в боевых действиях и жизни на оккупированных территориях делает эту дистанционную консолидацию свободной от непроговоренных тем и непроработанных травм.
Несмотря на резкие перемены политической конъюнктуры, память о войне имеет отчасти другую структуру. Прежде всего это прелюдия Второй мировой войны в виде совместной победы над Японией. В российской и монгольской историософии войны эта победа не только вывела Японию из войны, но и защитила Москву в октябре 1941 г. (похожее мнение выразил российский президент на празднованиях годовщины победы на Халхин-Голе), когда каждое событие могло перевесить чашу весов. В этой перспективе монголы защитили Москву в 1939 г. и тем самым определили ход Второй мировой войны. Антиципация победы под Москвой связана и с главным немонгольским героем Халхин-Гола — маршалом Жуковым. Один из главных маршалов Второй мировой войны становится символом и первой общей победы, которая как бы закладывает фундамент для будущих побед коалиции. Как было сказано ранее, война является неотъемлемой частью мистерии возрождения государственности, рассказом про правильный выбор модели независимости и собственные заслуги. Последний компонент очень важен, так как он дает возможность включить дееспособность народа в большие процессы и локализировать их в монгольской истории. После этого идет период братской помощи и участие в освобождении Китая от Японии. Непосредственно с ним связанное поражение планов монгольского руководства по созданию большой Монголии с Внутренней Монголией и казахскими землями в Западном Китае присутствует в массовом сознании, но не меняет факта участия в мировом процессе и его позитивных оценок. Это связано с объективным пониманием, что, кроме Монголии, ни одна страна Внутренней Азии не получила автономии, поэтому сама по себе неудача расширения удачного проекта не является однозначным критерием его оценки.
Кроме того, сложная оценка международной политики в регионе не меняет факта совместного действия, спасшего мир от фашизма и японского милитаризма. Так, обозначенная перспектива легко встраивается в российскую политику памяти, сохраняя при этом собственные приоритеты. Акции российских организаций очень просто вписываются в общее отношение полуофициального праздника, оказанная во время войны помощь становится новым языком дара, цементирующим российско-монгольские отношения, а совместные действия 1939 и 1945 гг. превращают Монголию в соавтора международной архитектуры в регионе.
Также важным участником политики памяти, направленной на советский период, является монгольская армия, которая, несмотря на сотрудничество с НАТО и участие в международных миротворческих акциях, остается одним из самых «советских» институтов монгольского общества. Почти вековой опыт обучения в советских/российских военных учебных заведениях, опыт совместных побед и боевого братства превращает армию в одного из основных защитников памяти о Красной армии в регионе. Если принять во внимание высокий престиж армии в обществе, остро переживающем драму национального освобождения, роль этого актора трудно переоценить. Военные открывают собственные памятники маршалу Жукову, а слава боевого братства Красной армии и монгольских воинов является важным путем социализации каждого монгольского военного.
Этой ситуации соответствует мемориальная политика как в Монголии, так и в России. Представители монгольского МИДа ставят памятники и организовывают встречи, посвященные совместному пути к Победе, монгольские части участвуют в московских парадах, а в самой Монголии продолжается культ Халхин-Гола и маршала Жукова, не затронутый кардинальными переменами в культурной политике и международной позиции страны.
Можно предположить, что укоренение этой перспективы в мистерии трудного пути к независимости делает невозможным резкий пересмотр отношения к войне и советско-монгольскому сотрудничеству этого периода. Акцентируемые в российской аналитике попытки японцев представить монголам альтернативный взгляд на события 1939 г. во многом преувеличены. Принятые рамки свободы в монгольской академии позволяют провозглашение любых взглядов, но в современной Монголии нет акторов, заинтересованных в пересмотре событий и отказе от дееспособности монгольского правительства во время Второй мировой войны. Кроме того, происходит столкновение контекстов, радикально меняющих смысл, что часто ускользает от японских и российских авторов. Представляя МНР и Маньчжоу-Го как независимые страны, павшие жертвой советских и японских амбиций, японская перспектива только усиливает монгольскую версию, основанную на изначальной дееспособности Монголии в советско-монгольских отношениях.
Вторым, менее заметным фактором является присутствие в монгольском обществе непосредственных участников войны. Это прежде всего монгольские военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях на тихоокеанском театре военных действий (на Халхин-Голе и в Маньчжурии), и небольшая группа монгольских военнослужащих, находящихся на территории СССР во время войны и участвующих в военных действиях. Их воспоминания присутствуют в общественном поле практически с 1945 г. и в целом представлены по советским моделям трудного пути подвига и побед. Эта перспектива для Монголии была даже более органична, чем для СССР, в связи с отсутствием опыта поражений монгольской армии и участия только в успешных операциях. Этот победный опыт вместе с отсутствием травматических переживаний оккупации и национального унижения лишает монгольскую память знакомого по другим странам травматического измерения и непроговоренности.
Кроме того, большая часть местного русского населения была призвана в Красную армию и после войны вернулась в Монголию. Местнорусские в Монголии — это смешанное сообщество потомков русских крестьян, западных бурят, казаков и китайцев, бежавших от голода и коллективизации, распознанное в словаре фронтирной нелояльности. Несмотря на участие в Великой Отечественной войне и в целом лояльное отношение к советской власти, сообщество не смогло в полной мере освободиться от образа укрытого врага. Алексей Михалев так описал связь между гражданским статусом русских в Монголии, историческим опытом фронтирного бандитизма и инструментального использования сообщества как дисциплинарного инструмента:
...местнорусских определили как белогвардейцев и врагов. Сформированная модель объяснения происхождения местнорусских стигматизировала это сообщество и ставила перед ними задачу «искупить вину перед Родиной». Комплекс вины формировался посредством социальной эксклюзии — отсутствия доступа к политическим правам, к престижной работе, различия в уровне потребления, социальной дистанции.
После 1991 г. местнорусские в Монголии перестали быть врагами, но так и не стали своими. Теперь их проблемой становится забайкальская аккультурация, проявляющаяся в неканонических православных практиках и посещении шаманов и лам. В связи с многолетней традицией исключения и почти полным исчезновением этой группы ее влияние на монгольское общество является слабым и почти незаметным. Они сливаются с группой советских ветеранов, и их дети участвуют в официальных мероприятиях российских культурных организаций.
Политику памяти о Второй мировой войне лучше всего иллюстрирует сеть мест памяти и ритуалы коммеморации. Большинство мест памяти было заложено еще в советское время. В 1979 г. в Улан-Баторе на горе Зайсан, недалеко от резиденции монгольских президентов, был построен мемориальный комплекс, посвященный советско-монгольской победе на Халхин-Голе. Центральное место занимает там Вечный огонь, а доминантой является монументальный памятник советскому солдату со Знаменем Победы в руках. Памятник окружен бетонным кольцом с мозаикой, представляющей совместную историю сражений, революций, борьбу с Японией, победу над нацистской Германией и покорение космоса. В результате расширения города комплекс теперь стал центром эксклюзивного микрорайона и подвергся капитальному ремонту. В 2003 г. его обогатили танком из бригады «Революционная Монголия», собранной благодаря дарам монгольского народа. На территории собраны урны с землей «с мест боевой славы СССР и МНР». Мемориал является главным местом празднования 9 Мая. Празднование, как правило, включает визит представителей правительства и российского посла. После возложения цветов делегация направляется к памятнику Жукову. У подножия холма в 2006 г. также была установлена 23-метровая статуя стоящего Будды, представляющая собой гармоничное сочетание приверженности родной традиции и памяти о советско-монгольском боевом братстве. Подобные комплексы находятся в большинстве центров аймаков, а организаторами проводимых там церемоний и восстановительных работ является не только местная администрация, но и очень часто монгольская армия, для которой память о сотрудничестве с Красной армией — важный элемент идентичности.
Если во многих областях монгольская политика памяти после 1991 г. была полностью переориентирована, то память о Второй мировой войне претерпела более тонкие изменения. Помимо регулярных восстановительных работ, на мемориальных площадках строятся новые памятники. В 2017 г. в городе Чойр на территории комплекса «Слава русского воина» была установлена 17-метровая фигура неизвестного (советского) солдата. Примером бесконфликтной переориентации исторической памяти, направленной на добрососедские отношения как с Россией, так и с Западом, является обнародованный 9 мая 2017 г. в Улан-Баторе памятник «Большой тройке»: Черчиллю, Сталину и Рузвельту. Появление Сталина в публичном поле страны, где целые десятилетия парламент обсуждал сталинские репрессии, может удивлять и становится понятным только в перспективе прагматичной историософии национального возрождения. Если представить установку идентичного памятника в Польше, то он был бы символом национального унижения и беспомощности польского государства. В Монголии противоположным образом Сталин и Советский Союз выступают в роли лоббистов монгольской независимости, так как на Ялтинской конференции была согласована независимость МНР.
Фигурами, символизирующими советско-монгольское братство оружия, являются два маршала — Г. К. Жуков и Х. Чойбалсан. Последний, несмотря на свою причастность к массовым репрессиям в 1930-е гг., воспринимается как выдающийся государственный деятель, архитектор монгольской государственности и победитель на Халхин-Голе. Сеть памятников монгольскому маршалу раскинулась по всей стране. Памятник ему находится перед главным корпусом МГУ в Улан-Баторе, в городе Чойбалсане (столице Дорнодского аймака), конный памятник маршалу установлен в центре площади Независимости. Не менее почетное место в городском пространстве выделено Жукову. В Улан-Баторе находится основанный в 1979 г. Музей Жукова, рядом с которым также есть памятник маршалу.
Каждая группа проводит на Халхин-Голе собственные, плохо скоординированные коммеморативные действия. В качестве примера можно описать, как в августе 2019 г. один из авторов этой статьи принял участие в создании бронзового памятника Жукову в центре Халхин-Гольского сомона. Точная реплика конного памятника из Иркутска была изготовлена и доставлена в Монголию по инициативе губернатора Иркутской области Сергея Левченко после предварительного согласования условий передачи этого «дара» с президентом Х. Баттулгой. Бронзовый монумент оказался слишком большим, чтобы проехать через пограничный терминал в Кяхте и был разрезан пополам. В таком состоянии он был доставлен в райцентр Халхин-Гольского сомона, где памятник маршалу был сварен и помещен на пьедестал в центре зарождающегося нового центра сомона. Это мероприятие стало частью масштабных юбилейных мероприятий по случаю 80-летия Победы на Халхин-Голе. Весь сомон превратился в строительную площадку, когда годом ранее В. В. Путин согласился выделить средства на модернизацию инфраструктуры в сомоне. Вокруг памятника Жукову создавались школа, больница, здание районной администрации и другие общественные здания. Капитальный ремонт проходил и в Музее Победы. Финальным актом празднования должен был стать сентябрьский визит президентов России и Монголии. Тем временем все готовились к рабочему, «хозяйственному» визиту президента Баттулги. Кроме строительных бригад, в постройке памятника и уборке территории участвовала сложная коалиция из монгольских и российских солдат, забайкальских казаков и бурятских отрядов Юнармии. Мемориальные места битвы на Халхин-Голе разбросаны на пространстве десятков квадратных километров. Статус памятников in situ имеет подбитая японская техника и остатки укреплений. С советских времен, по случаю очередных годовщин, создавались новые места памяти, как правило, состоявшие из советских танков или другой техники, водруженной на пьедестал, и информационной доски, перечисляющей время боев, участвующие подразделения и павших в данном месте солдат. За последние десятилетия государственными властями двух стран, местной администрацией, властями соседних сибирских регионов, объединениями ветеранов, казачества, бурятской Юнармии и другими учреждениями и организациями были установлены новые мемориальные доски и возведены стелы. Приехавший на встречу с президентом Монголии посол России с удивлением узнал, что власти Бурятии решили учредить собственный юбилейный памятник с изображением трех солдат: монгола, бурята и русского. Установка памятника была согласована лишь с властями аймака, в обход посольства РФ и монгольского министерского уровня. Такая своевольная «пограничная дипломатия памяти» явно не понравилась российскому дипломату. Между тем военизированные организации из соседних сибирских регионов также вели поиск и эксгумацию тел советских солдат. Аналогичную акцию вели на той же территории японские поисковики.
Приехавшего с визитом на стройплощадку президента Монголии встречали стоящие в отдельных рядах делегации коллективных акторов памяти: местная администрация, монгольские солдаты, сотрудники российского посольства, российские военнослужащие, представители Иркутской области, казаки и молодежные активисты из Бурятии. Ирония всей этой ситуации указывает как на гармоничное сочетание нескольких моделей памяти (российскую в ее официальной и региональной версиях и монгольскую), так и на открытость монгольской модели и ее поддержку на низовом уровне. Политика коммеморации Второй мировой войны практически не сталкивается с критикой и воспринимается как единственная возможная форма памяти.