Северный патриотизм
Отрывок из книги Михаила Агапова «Ревность о Севере: Прожектерское предпринимательство и изобретение Северного морского пути в Российской империи»
Когда-то северные окраины России воспринимались правящей элитой как нечто малозначимое, но все изменилось во второй половине XIX — начале XX века: благодаря труду энтузиастов, многие из которых были предпринимателями, Север был полностью переосмыслен. О том, как это происходило, рассказывается в книге Михаила Агапова «Ревность о Севере: Прожектерское предпринимательство и изобретение Северного морского пути в Российской империи» — публикуем отрывок из нее.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Михаил Агапов. Ревность о Севере: Прожектерское предпринимательство и изобретение Северного морского пути в Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Содержание
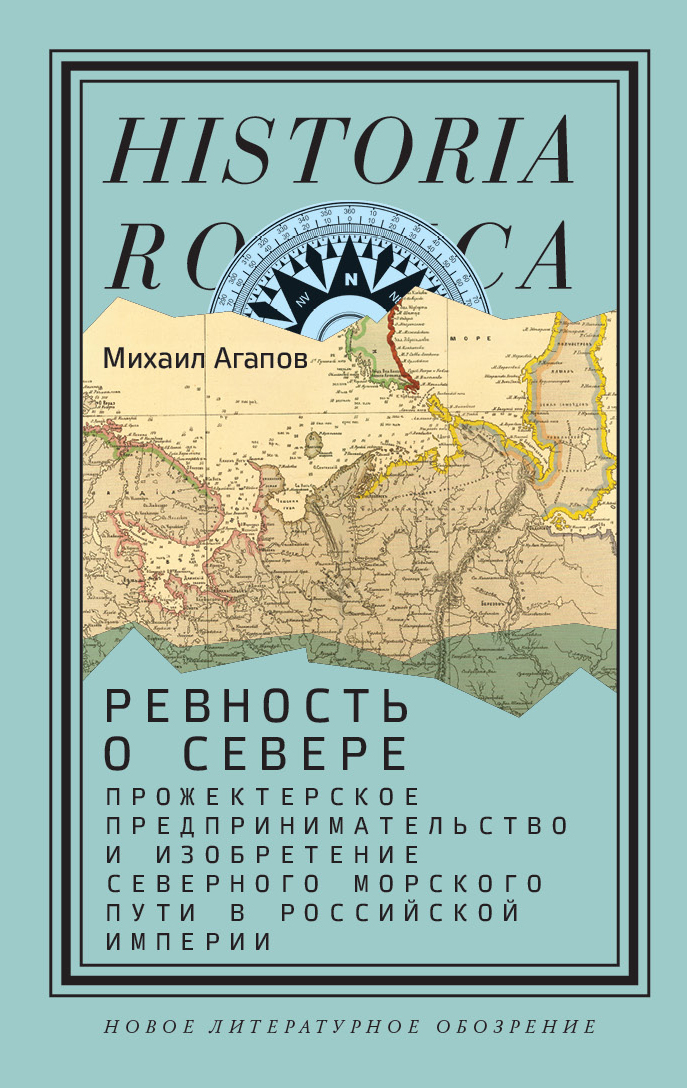
Размышления об исторических судьбах «наших северных стран» занимали центральное место на страницах выходившего в Санкт-Петербурге в 1845–1847 годах литературного журнала «Финский вестник». Его издатель и редактор, литератор-финляндец, славянофил, отставной поручик Федор (Фридрих) Карлович Дершау (1821 — не ранее 1862) ставил своей целью познакомить читателей с историей, литературой и современной жизнью северных стран:
«Говоря о цели журнала, мы упомянули о взаимном через него знакомстве всего Севера. Да не покажется это никому ни странным, ни слишком сказанным. Журнал, издаваемый на русском языке, знакомя Россию со скандинавскими национальностями, в такой же мере будет знакомить Скандинавию с Россиею посредством Финляндии, где русский язык довольно известен для того, чтоб финляндцы могли читать русский журнал».
Интеллигенция северорусских губерний с большим интересом восприняла выход «Финского вестника». Материалы столичного журнала неоднократно перепечатывались в «Архангельских губернских ведомостях» с хвалебными комментариями местных авторов. В 1845 году Ф. К. Дершау опубликовал программную статью «Север европейской России». В ней, насколько нам известно, впервые было использовано понятие «русский север», к которому автор отнес «во-первых Финляндию, потом губернии: Архангельскую, Олонецкую, Вологодскую, северную часть Пермской губернии, Вятской, Костромской, Ярославской и Новгородской, Петербургскую, Эстляндскую, Лифляндскую и Курляндскую». Следует заметить, что Ф. К. Дершау занимался конструированием «русского севера» в то самое время, когда с подачи министра просвещения и президента Академии наук графа С. С. Уварова российская научная и общественно-политическая мысль была занята разработкой теории имперского национализма. Центральным положением последней был тезис о «самобытности» России, который требовал надежного историко-культурного обоснования. Откуда российская «самобытность» брала свое начало? Официальная доктрина указывала на Московское царство. Н. И. Надеждин считал, что начала российской исторической жизни связаны с Карпатами и Дунаем. Ф. К. Дершау апеллировал к северному, новгородскому мифу:
«Наш север в глубокой древности был одушевлен торговлею; его меха шли на Запад и Юг Европы, а также и в Азию. При таком положении вещей Новгород играл важную роль… В нем началось развитие понятий собственности и личности русских славян; тут положено и начало общества, которого первоначальный характер, вероятно, был республиканский, как это было везде в подобных случаях, например кругом всего Средиземного моря».
Вопреки некоторым из своих современников, доказывавших вслед за М. В. Ломоносовым, что Рюрик был славянином, Ф. К. Дершау не сомневался в его скандинавском происхождении. Противопоставляя Русский Север скандинавскому, к которому Ф. К. Дершау относил Швецию и Норвегию, он утверждал, что последний уже выполнил свою историческую миссию — она заключалась в том, чтобы «положить основания нескольким государствам», — тогда как первому еще только предстоит исполнить свое всемирно-историческое предназначение. Таким образом, в представлении Ф. К. Дершау Русский Север в определенном смысле наследовал скандинавскому, который через своих конунгов «положил начало русскому государству».
Североцентристский взгляд Ф. К. Дершау на российскую историю не встретил сочувствия у разработчиков «национального» историко-философского нарратива. «Северный край» представлялся им слишком отдаленным и дремучим для того, чтобы воспринимать его всерьез. Отсылка к новгородскому республиканизму через несколько лет после публикации статьи «Север Европейской России» вообще стала выглядеть опасной фрондой. Дискуссии об исторических путях страны, допускавшиеся в 1830-х — первой половине 1840-х годов, стали невозможны с началом «мрачного семилетия». Близкий по своим взглядам к идеологам «русского северянства» второй половины XVIII — начала XIX века, Ф. К. Дершау не обладал влиянием, сопоставимым с их влиянием, ни в области науки, ни в литературном мире, ни в политической сфере. Неудивительно, что куратор всех издателей, управляющий III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии Л. В. Дубельт отказал Ф. К. Дершау в просьбе «принять его [журнал „Финский вестник“] под свое покровительство и тем самым дать ему ход и известность». В 1848 году Ф. К. Дершау переименовал журнал в «Северное обозрение» и передал его издание в руки профессора-востоковеда В. В. Григорьева, который сделал журнал «религиозно-патриотическим». Однако смена названия и направленности не спасла издание. Северная тематика мало интересовала российскую публику. В 1850 году журнал закрылся.
В отличие от Юго-Западного и Северо-Западного краев, где в 1830–1840-х годах имперский центр настойчиво проводил политику активной русификации, Северный край в этом отношении, впрочем, как и во многих других, был предоставлен самому себе. Сетования по поводу пренебрежения со стороны правительства нуждами северных губерний не сходили в это время со страниц «Архангельских губернских ведомостей». «Архангельская губерния, к сожалению, слишком на худом счету состоит у наших соотечественников и почитается как бы опальною… климат ее принимают за самый убийственный, а народонаселение — за самое грубое и невежественное», — писал некто, скрывший свое имя за инициалами «И. Н.».
Стараясь привлечь внимание имперского центра к «Северному краю», местные интеллектуалы и общественные деятели с неизменным постоянством продвигали в губернской и по возможности в столичной печати три взаимосвязанных тезиса: во-первых, о ресурсном богатстве Севера России; во-вторых, о нависшей над ним угрозе иностранной экспансии; и, в-третьих, но не по важности, о его исконно русском характере. Инкорпорация в национальное тело представлялась интеллектуалам и общественным деятелям «Северного края» первейшим и надежнейшим способом его экономического и социального «оживления», в частности посредством введения государством протекционистской политики и различных мер льготного кредитования местных предпринимателей. Голосом «Севера России» в 1840–1850-х годах был архангельский предприниматель, краевед и публицист — Осип (Иосиф) Августович Богуслав. Свои статьи и брошюры, выходившие в центральных издательствах, он подписывал звучным псевдонимом О. Беломорский. И. А. Богуслав известен прежде всего как автор экономических, исторических и этнографических работ о «северных странах России», но помимо этого он был одним из первых глашатаев «северного патриотизма»:
«Суровость Беломорского климата преувеличена в рассказах. И в Беломорье живут люди, живут во многих местах привольно и не променяют дремучих лесов и бурных морей своих на Италийское даже небо. В доказательство как Русский народ привержен к своим Пенатам приведу следующий пример. Кольский уездный казначей Зубов родился в Коле, дослужился там до штаб-офицерских чинов, знаков отличия, состарился — одним словом, и раз только на своем веку выезжал оттуда совершить путешествие в губернский город [Архангельск]. Отец его также всю жизнь почти провел в Коле, да и внуку его, сыну г. казначея, суждена, кажется, та же участь».
Позиционируя беломорцев «истинно русскими», «верными сынами Отечества», крепко привязанными к своему далекому краю — а следовательно, удерживая его самим фактом постоянного там проживания в составе Российской империи, — И. А. Богуслав буквально требовал от правительства, чтобы и оно, в свою очередь, было радетельным отцом своим детям, то есть покровителем, защитником их деловых интересов. Таким образом, риторически лояльность обменивалась на государственную протекцию, точнее — ее ожидание.
В той ситуации, когда краеугольным камнем официальной идеологии стала «национальная религия», общественность считавшегося раскольническим края приложила немало усилий для того, чтобы доказать свою лояльность государственной церкви. В Николаевскую эпоху раскольничество было непреодолимым препятствием на пути инкорпорации Северного края в национальное тело. Но в это же время заметный рост потока паломников в Соловецкий монастырь способствовал переосмыслению Первого Севера России как одного из общенациональных центров Русского православия. В стихотворении, посвященном Архангельску, местный поэт М. Истомин воспел «Северный край» — «Святой Руси оплот полночный».
Крымская (Восточная) война 1853–1856 годов резко сблизила Север и Юг России посредством пережитого ими общего военного опыта. Хотя в военно-стратегическом отношении оборона Севастополя несравненно превосходила по своему значению оборону Соловецкого монастыря, религиозное значение последнего превращало его защиту в событие общенационального масштаба и работало на укрепление тезиса о «духовной победе» россиян. Примечательно, что начиная с 1853 года И. А. Богуслав стал использовать в своей публицистике для обозначения Архангельской губернии словосочетание «русский север».
Важным символическим актом единения Севера и Юга России стал визит в Соловецкий монастырь императора Александра II. Посетив северную сторону Севастополя в октябре 1855 года, еще во время войны, через два года после ее окончания, в июне 1858 года, Александр II совершил путешествие на Соловецкий остров. Как сообщает официальный отчет архангельских властей, «государь император изволил осмотреть весь [Спасо-Преображенский] монастырь, и обойти наружную стену его, сопровождаемый Епископом Александром, объяснявшим Его Величеству все подробности славной защиты, совершенной духовенством и служителями сей обители, состоящею при ней инвалидною командою, отставными нижними чинами, некоторыми из содержащихся здесь преступников и несколькими частными лицами против нападения англичан в 1854 году». Тогда же в Архангельске Александр II точно так же, как и Александр I почти сорок лет назад, посетил верфь, где принял участие в закладке винтового фрегата «Пересвет», ответил на приветствия местных жителей и «обратил внимание на украшенные жемчугом богатые парчовые наряды [крестьянских девушек], удержавшие за собой древнюю форму, времен Новгородцев, некогда бывших обладателей сего края, и милостиво разговаривал с этими девушками».
С началом либерализации российской внутриполитической жизни память о новгородском прошлом «Северного края», которая всегда присутствовала на региональном уровне, не только обрела легитимность в столичных салонах и на страницах центральной прессы, но и стала важной частью либерального историко-философского нарратива. В эпоху Великих реформ сокращение культурной дистанции между имперским центром и его европейской северной периферией во многом обуславливалось востребованностью воображаемого республиканского (новгородского) опыта как альтернативы самодержавной (московской) модели развития страны. Отправлявшиеся на дальний север путешественники 1850–1860-х годов, такие как, например, С. В. Максимов, старательно искали там «в неприкосновенной целости следы славянского новгородского элемента». В Архангельской губернии повсюду вокруг себя С. В. Максимов видел «народ, получивший бытие и живший новгородским именем, под новгородским влиянием и с новгородским духом», слышал «коренной, беспримесный новгородский говор, перенесенный через Уральские горы и распространившийся по всей Сибири», наблюдал, как «ведется свадебное дело… по-старому, исконному новгородскому обычаю». Однако при ближайшем знакомстве с жителями далекого севера С. В. Максимов был вынужден признать, что даже те из них, кого он считал самыми близкими по духу и происхождению древним новгородцам, — поморы — не соответствовали составленному им идеальному образу «северных великороссов». Более того, по мнению С. В. Максимова, они мало чем отличались от крестьян «коренных» губерний, а в чем-то даже уступали им:
«Помор архангельский так же, как и всякий другой русский человек, на трех сваях стоит: авось, небось, да как-нибудь; хотя тот и другие давно и хорошо знают, что знайка бежит, незнайка лежит, что во всяком деле почин дорог.
Большего застоя, большего невнимания к делу трудно найти и в ином месте, и в иных делах русского человека, как… в беломорских промыслах. Поморы в этом отношении живут еще тою жизнию и по тем правилам, которые случайно установились еще во времена до Марфы Посадницы, во времена первого населения этого богатого края.
Архангельские поморы до того любопытны и подозрительны, что во всякой деревне являются толпами и в одиночку опрашивают всякого, куда, зачем и откуда едет, и всякою подробностию жизни нового лица интересуется едва ли не больше собственной. В этом поморские мужики похожи на великорусских баб и нисколько на мужиков, почти всегда сосредоточенных на личных интересах и более молчаливых, чем любознательных.
Только в женском населении, отличающемся крепким, здоровым и красивым телосложением, сохранился новгородский тип».