Семь кучек Гоголя и четыре упряжки Толстого
Фрагмент переписки С. А. Рачинского и И. Л. Леонтьева
Педагог, основатель русской церковно-народной школы Сергей Рачинский и прозаик, драматург, теоретик народного театра Иван Леонтьев, писавший под псевдонимом Иван Щеглов, в 1890-х годах вели переписку, сохранившуюся до наших дней. Рачинский, основавший в своем имении Татево в Смоленской губернии образцовую церковную школу для деревенских детей, с интересом относился к своему более молодому собеседнику, жителю Петербурга, приятелю Чехова и обличителю крайностей толстовства, уже во взрослом возрасте пережившему обращение в православие. Леонтьев не учился в Татевской школе, но после знакомства с ее основателем в шутку называл себя «сверхштатным татевским учеником». Предлагаем ознакомиться с двумя фрагментами их эпистолярия, полностью опубликованного издательством «Пушкинский Дом».
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Сверхштатный ученик: Переписка С. А. Рачинского и И. Л. Леонтьева (Ивана Щеглова) (1891–1900). СПб.: Пушкинский Дом, 2024. Составление, вступительная статья, подготовка текста и комментария О. Л. Фетисенко. Содержание
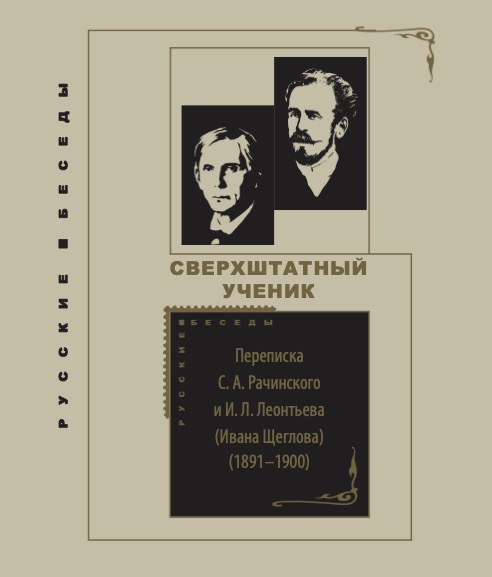 Щеглов — Рачинскому
Щеглов — Рачинскому
Пятница 9 августа 1891 г.
Глубокочтимый, Сергей Александрович!
Больше недели пребываю я в Петербурге, на Измайловском проспекте (дом 7, кв. 60), но до сих пор не мог собраться с мыслями, чтобы написать Вам, потому что был болен... болен физически и нравственно: физически, как всякий живой человек, попавший с вольного деревенского воздуха в душный городской ящик, а нравственно — как писатель, повидавший лучшие виды и снова втиснутый в рутинные, опостылевшие рамки. — Я не знаю, как бы Вам нагляднее подчеркнуть мое настоящее томительное состояние, без излишнего трагизма?.. Ну вот жил у нас в доме некий выгнанный со службы землемер, который занимался выделкой фальшивого одеколона. — Вот и для меня теперь ясно до скорби — что Вы и все Ваши счастливые последователи от Горбова до жизнерадостного Адриана, вы все делаете большое, хорошее и здоровое дело, а я — фальшивый одеколон... Это одеколонное сознание лишает меня в настоящее время всякого ап〈п〉етита к художественному творчеству и наталкивает на иные более насущные по своей ближайшей пользе вопросы... Кроме того, мой слабый ум слишком глубоко еще встревожен впечатлениями Оптиной Пустыни и душа временами ноет новой и непонятно-сладкой тоской. — Вы помните блестяще-меткое замечание С. Т. Аксакова по поводу смерти Гоголя: «Нельзя исповедывать две религии безнаказанно. Тщетна мысль совместить и примирить их. Христианство сейчас задаст такую задачу художеству, которую оно выполнить не сможет — и сосуд лопнет...» — Из этого чуткого замечания о большом человеке — не должен ли я, маленький человек, взять себе надлежащий урок?!.. Ну, словом, дорогой Сергей Александрович, я переживаю теперь такую серьезно идейную передрягу, из которой — право не знаю — сумею ли выйти с честью!.. Но довольно о себе — боюсь, как бы Вы меня не сопричислили к сонму надоедливых петербургских нытиков, которых у нас здесь как клопов...
В Звенигородский монастырь св. Саввы заезжал, но отца Германа, к сожалению, там не застал; он был в Москве. Был в Новом Иерусалиме и в Троицко-Сергиевской Лавре, где отслужил молебен о благополучном путешествии у раки св. Сергия... Но после Оптиной и обедни в Татевской церкви едва ли что может удовлетворить, ни тем менее чересчур смешливые монахи Троицкой Лавры...
Между прочим в Москве, среди многих писем, нашел два рекомендательных письма к Л. Толстому, где в одном говорилось, что он обо мне предупрежден и даже особенно расположен после прочтения «Первого Сражения» и т. д. Но сердце не лакей, чтобы ему приказывать, и я оба рекомендательных письма спрятал... до более подходящей минуты. — Сначала надо съездить к отцу Иоанну. — Не так ли? В числе посылаемых при сем Вам книг, есть между прочим брошюрка о страннике Александре, о котором — помните — я Вам как-то говорил. — Третьего дня я был на Митрофаньевском кладбище (Св. Митрофана) и видел собственными глазами умилительную сцену: толпы народа двигались почти весь день мимо могилы, чтобы приложиться к образу, который покойный носил на себе во время странствования — так что протискаться можно было только с трудом; панихиды служились беспрерывно, а его могила, с простым деревянным крестом, буквально вся была загромождена разнообразнейшими народными приношениями: полевыми цветами, искусственными венками, образками, крестиками, чашечками с кутьей и т. д. —
Но, в двух словах всего не расскажешь, а тем более при моей мнительности относительно моего собственного писания: меня все смущает — разбираете ли Вы мой почерк, не затрудняю ли и не сержу ли я Вас им, как многих, — и не нужно ли, наконец, прибегнуть к помощи писаря. Переписка с Вами, конечно, мне до того настоятельно нужна, что готов, в крайнем случае, прибегнуть к наемной руке. — Что до Вашего ответа, то я иду на то, чтобы ждать его хоть полтора месяца. — Я отлично знаю и понимаю хлопотливые условия Вашего школьного дня и всегда буду ждать ответа примерно-терпеливо, раз он только будет! —
Как Вас благодарить за Ваше родственно-доброе гостеприимство — я уж и не знаю! Перед добрейшей и глубокоуважаемой Варварой Александровной я в вечном долгу... ежели не искуплю его каким-нибудь «тяжелым петербургским послушанием»?!.. Прилагаемые по ее адресу книги — есть безмерно-слабый знак моей сердечной признательности...
В заключение несколько невольных и необходимых слов о посылаемых книгах. — Хотя я знаю ограниченность Вашего досуга, но мне хотелось бы, чтобы Вы пробежали все-таки моего «Поручика Поспелова»: это мое первое печатное произведение, и Вы увидите, как знаменательно странно он связан с душой Татева. — (Написано в апреле 1881 г.)
Роман «Гордиев Узел», разумеется, нездоровый, чисто петербургский роман, но он написан страстно и искренне и, может быть, Вы найдете в нем элементы, по которым Вы дадите право обратиться преимущественно к художнической деятельности, в чем я за последнее мое петербургское время стал болезненно колебаться. —
«Русский Мыслитель» имеет совсем особое значение. Составленный неумело, с огромными промахами, он был составлен все же с истинным увлечением и на нем лежит, кажется, та печать, которой я главное добивался: печать общедоступности и полной моральности. Ежели Вы найдете, что это так, то я бы мог с великою радостью без всякого ущерба для себя выслать Вам его, экземпляров 20, 30 — ежели не для учеников, то для учителей... ну, конечно, для учителей! — Для учеников более взрослых, пожалуй бы, подошло мое «Первое Сражение» в издании «Посредника» с рисунком Ковшенко, вполне воплощающим для меня мое настоящее пережитое сражение 13 августа 1877 г. Сокращена она для народа г-жей Чертковой А. К., и, по-моему, не совсем удачно (что впрочем чувствительно только автору, а не простому читателю!) и издано в 12 000 экземп〈ляров〉. У меня опять-таки есть 20 свободных авторских экземпляров, которые бы непременно надо было бы переслать в Татево, ежели они подойдут, — в чем не уверен еще... Для дополнения посылаю, прилагаемые Вам и свои две физиономии: прошлую и настоящую, обе сделаны в момент самого гнусного франтовства (1880 г. и 1890 г.).
Хотелось бы послать книжку доброму Горбову, но не знаю хорошенько куда адресовать?
Сердцем весь Ваш
И. Леонтьев
P. S. Всем Татевским мои душевные приветы!!
Рачинский — Щеглову
Татево, 17 авг〈уста〉
Дорогой Иван Леонтьевич.
Очень, очень был рад получить от Вас весточку. Книги Ваши до меня еще не дошли. Радуюсь и этому, ибо получение их заставило бы меня отложить мой ответ.
Совершенно естественно, что в настоящем Вашем настроении Вас более тянет к О. Иоанну, чем к Толстому. Последний от Вас не уйдет. Прежде чем вступить с ним в сношения, Вам полезно прийти в состояние духа, более спокойное и ясное.
Изречение Лескова о Гоголе — парадокс. Не обращение к вопросам религии погубило талант Гоголя, губит ныне талант Толстого, но сатанинская гордость (в сочетании с баснословным невежеством). Оба вообразили, что потому, что они великие художники, они потому самому великие вероучители и призваны дополнить Евангельские заповеди, и — в результате оказались семь кучек Гоголя и четыре упряжки Толстого.
Слава Богу, этого недостатка в Вас нет. Поэтому нисколько не боюсь за Вашу будущую литературную деятельность. Она останется непритязательной и скромной, но осветится и согреется тем мировоззрением, которое ныне раскрывается перед Вами. Мировоззрение это есть истинное, и поэтому оградит Вас от всего фальшивого и ложного. На этом фоне, в этом свете, приобретают смысл и силу изображения самых мелких, самых обыденных жизненных явлений, приобретают поучительность, тем большую, чем менее художник задается намерением поучать. Художники — благодетели человечества — не в силу тех общих истин, которые столь редко удается им воплотить в своих творениях; не в силу того художественного наслаждения, которое доставляют им их творения; а тем, что они учат нас видеть и в природе, и в людях, и в самих себе то существенное и вечное, что без помощи искусства недоступно тупому нашему зрению. Тихие сценки Мейссонье, серые голландские пеизажи — такое же откровение, как величавые портреты Вандейка или ангелы Фьезоле...
Конечно, для спокойного творчества, настроение Ваше еще не достигло достаточной полноты и ясности. Но это прийдет. Вам пока мешает среда, в коей Вы вращаетесь. Но петербургское общество многообразно и обширно. В нем найдутся люди и группы людей, к коим Вы примкнете в силу новых Ваших стремлений, и которые составят вокруг Вас среду и атмосферу, Вам нужную...
Теперь о Татеве. Сегодня оставила нас племянница, завтра едет Петерсон. Летние птицы начинают разлетаться — а позднее лето в полной красе. Яркое солнце, золотые вечера, многозвездные ночи. Тропические дожди, длившиеся три недели и сильно помешавшие уборке хлеба, придали растительности в саду величавые размеры...
Николя дописывает свои две картины и кроме того сильно подвинул большой елегический пейзаж, начатой после Вашего отъезда.
Сергий Сеодзи пишет для Русск〈ого〉 В〈естника〉 прелестные воспоминания о своем обращении в христианство, а я их переписываю, во избежание слишком бесцеремонных редакторских поправок, которые стерли бы с этого рассказа его экзотический колорит.
У нас пробыл неделю Смоленский (директор Моск〈овского〉 Синодального хора) и взял к себе до октября моего юного регента (Сашу) для некоторого суммарного обучения. В его отсутствии хором довольно удачно правит Сергий.
Сохрани Вас Бог писать мне чужою рукою. Почерк Ваш скверен. Но я его разбираю — а у меня страсть к автографам — не покупным и дареным, а естественным, каковы получаемые мною письма.
Все Вам усердно кланяются. Николя напишет.
Да хранит Вас Бог
преданный Вам
С. Рачинский