Садическое совокупление власти с литературой
Отрывок из книги Дмитрия Цыганова «Сталинская премия по литературе»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Дмитрий Цыганов. Сталинская премия по литературе: Культурная политика и эстетический канон сталинизма. М.: Новое литературное обозрение, 2023. Содержание
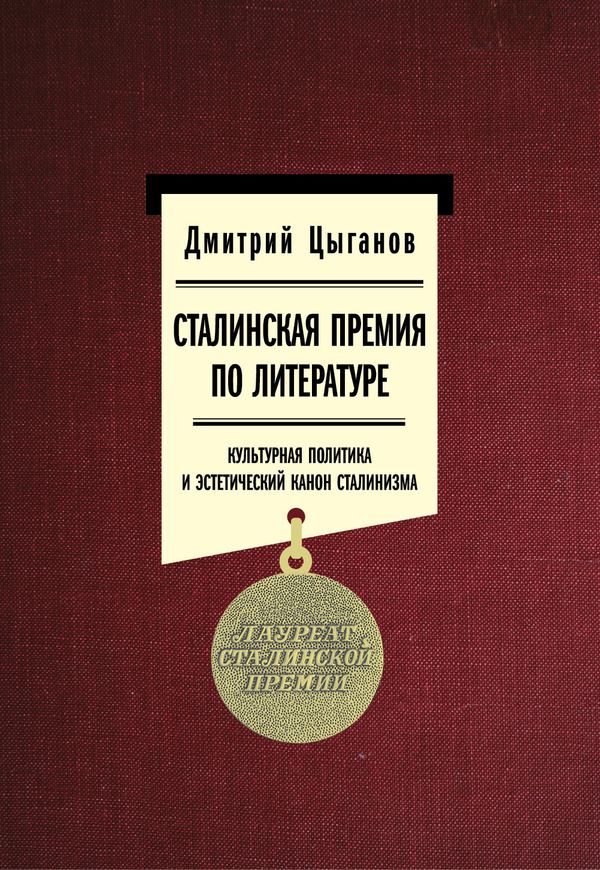 На сегодняшний день почти не существует работ, в которых вопрос о советском литературном каноне получил бы сколько-нибудь серьезное историко-теоретическое рассмотрение. Одной из первых попыток решения этой давно назревшей проблемы стала статья X. Гюнтера «Жизненные фазы соцреалистического канона», напечатанная по-русски в знаменитом сборнике 2000 года и ставшая своего рода итогом, обобщившим опыт многолетних размышлений ученого на тему советского культурного канона. В этой работе немецкий славист, во многом опираясь на свою книгу 1984 года, разграничивает четыре группы факторов, определяющих механизмы построения соцреалистического канона.
На сегодняшний день почти не существует работ, в которых вопрос о советском литературном каноне получил бы сколько-нибудь серьезное историко-теоретическое рассмотрение. Одной из первых попыток решения этой давно назревшей проблемы стала статья X. Гюнтера «Жизненные фазы соцреалистического канона», напечатанная по-русски в знаменитом сборнике 2000 года и ставшая своего рода итогом, обобщившим опыт многолетних размышлений ученого на тему советского культурного канона. В этой работе немецкий славист, во многом опираясь на свою книгу 1984 года, разграничивает четыре группы факторов, определяющих механизмы построения соцреалистического канона.
1. Общий идеологический дискурс, т. е. идеология марксизма-ленинизма.
2. Литературно-политический дискурс, который включает в себя идеологические постулаты, такие как, например, партийность, типичность, революционная романтика, народность и т. д.
3. Металитературный дискурс, т. е. в первую очередь литературную критику, которая конкретизирует «художественный метод» соцреализма, применяя его к литературным текстам.
4. Собственно литературный дискурс, в котором сформулированы определенные стилевые нормы и запреты.
Эта классификация вполне отвечает специфике культурного производства сталинизма: принципиальной особенностью процесса складывания канона в сталинскую эпоху становилась обусловленность ситуацией, как ее еще в августе 1922 года в дневниковой записи определил М. М. Пришвин, «садического совокупления власти с литературой», ощутимо усугубившейся к середине 1930-х годов. Однако подобное решение этого вопроса, акцентирующее внимание преимущественно на идеологическом компоненте, закономерно приводит к отходу от детального рассмотрения собственно историко-литературной составляющей темы формирования и трансляции текстового канона сталинской культуры. Вместе с тем оформление литературного ядра социалистического канона, как и формирование любого другого культурного канона, было напрямую связано с совокупной работой множества институциональных механизмов. В поле зрения Гюнтера, увлеченного описанием культурной динамики 1900–1990-х годов как «циклической смены сужения и „размыкания“ канона в зависимости от общественной и политической ситуации», попадает лишь небольшой фрагмент разветвленной институциональной системы, лежавшей в основе литературного производства сталинизма. Так, исследователь пишет, что
«характер советского канона включает необходимость его институционального укрепления и контроля за его функционированием. <…> „Нормальное“ функционирование канона обеспечивается <…> в первую очередь литературной критикой и так называемой редактурой».
Первоочередность двух этих форм прямого участия государства в литературном процессе также объясняется изначальным акцентом именно на идеологической стороне вопроса: литературная критика и так называемая редактура (под ней Гюнтер понимает практику исправления текстов, эквивалентную (авто)цензуре) — одни из самых надежных механизмов проведения репрессивной культурной политики. Неслучайно Е. Добренко пишет, что «в 1930-х гг. критика окончательно теряет функции регулятора литературного процесса, сам критик утрачивает право самостоятельной оценки, независимого суждения, выбора материала для анализа». Именно этим и определяется селективный потенциал советской литературной критики, позволявший ей выступать в роли механизма отбора текстов с целью их последующей иерархизации. В этом состояло принципиальное отличие института советской литературной критики от идеологически неоднородной паралитературной публицистики XIX столетия, которая ввиду направленческой разобщенности не могла стать инструментом оформления эстетического канона.
Ощутимое по сравнению с 1930-ми снижение производственных мощностей может объясняться несколькими причинами: в 1940-е количество институций сокращалось как в связи с набиравшей силу централизаторской тенденцией, так и ввиду отсутствия былого запроса на стабилизацию культурного поля, которое после войны заметно утратило прежнюю неоднородность. Дело в том, что «толстые» литературные журналы лишь формировали литературное поле официальной советской культуры, но не могли (из-за отсутствия на то институциональных ресурсов) определять его центр и периферию. Публикация текстов на страницах периодических изданий свидетельствовала о прохождении ими цензурного фильтра, отделявшего индивидуальное словесное творчество конкретного автора от пространства «советской литературы». Из этого следует, что распространенный в специальных исследованиях взгляд на «толстые» журналы как на институциональные механизмы формирования соцреалистического канона — взаимного соположения прошедших отбор литературных текстов — нуждается в критическом переосмыслении. Действительно, к середине 1940-х годов за рассеянной по «толстым» журналам и газетам литературной критикой окончательно закрепится функция инструмента, позволявшего высшему партийному руководству регулировать культурную ситуацию. Однако та роль «культурогенного феномена» (то есть имеющего возможность «порождать соцреалистический текст»), которая отводится литературной критике современной наукой, в значительной мере преувеличена, что определяется, по-видимому, недостаточным вниманием к другим институциональным механизмам, задействованным в формировании сталинского эстетического канона. В большинстве случаев «толстые» журналы (их критические отделы) и особенно газеты («Литературная газета» (с декабря 1942 по конец октября 1944 года — «Литература и искусство»), «Культура и жизнь»), будучи «органами» правления Союза советских писателей или Управления пропаганды и агитации ЦК, скорее определяли направление развития советской официальной культуры, оказывались координирующими художественную жизнь в соответствии с формулируемыми на их же страницах положениями. Однако ни пресса, ни «толстые» литературно-художественные журналы не были способны структурировать это самое «литературное поле», устанавливать иерархию авторов или текстов, но в силу своей синтетичности были прямо связаны с определением качественных параметров той продукции, которая предваряла собой книжно оформленный текстовый канон соцреализма. В сознании сталинских функционеров они воспринимались как потенциальная модель «советской литературы», надежно определявшая ее тематическую и эстетическую амплитуды. Предъявляемое же к произведениям требование «художественного качества» не имело под собой никакого эстетического каркаса (как свидетельствуют документы, в сознании Сталина художественные тексты подразделялись на «бриллианты» и «навоз»), а его несоблюдение становилось поводом к оправданию ликвидаторской политики. Выступая 18 апреля 1946 года в Агитпропе на совещании работников аппарата ЦК ВКП (б) по вопросам пропаганды и агитации, Жданов говорил о первоочередных задачах политики партии в области художественной литературы:
«Товарищ Сталин дал очень резкую критику нашим толстым журналам, причем он поставил вопрос насчет того, что наши толстые журналы, может быть, даже следует уменьшить. <...> Товарищ Сталин назвал как самый худший из толстых журналов „Новый мир“, за ним идет сразу „Звезда“. Относительно лучшим или самым лучшим товарищ Сталин считает журнал „Знамя“, затем „Октябрь“, „Звезда“, „Новый мир“».
И далее:
«Товарищ Сталин поставил вопрос о том, что <...> критику мы должны организовать отсюда, из Управления пропаганды, т. е. Управление пропаганды и должно стать ведущим органом, который должен поставить дело литературной критики. <...> Сталин говорил о том, что нам нужна объективная, независимая от писателя, критика, т. е. критика, которую может организовать только Управление пропаганды, объективная критика невзирая на лица, не пристрастная, поскольку тов. Сталин прямо говорил, что наша теперешняя критика является пристрастной».
Воплотившееся в гюнтеровских построениях стремление к упрощению и схематизации, вероятно вызванное желанием представить стройную и непротиворечивую схему движения советского литературного процесса первой половины XX столетия, сконструировать «глобальную модель соцреализма», не только в значительной мере обедняет представление о культуре сталинизма, но и неизбежно приводит к ложным выводам как о хронологических границах оформления социалистического канона, так и о его качественных параметрах. Такой редуцирующий подход требует известного пренебрежения множеством нюансов, характеризующих картину литературной жизни сталинского периода: всевозможные фигуры умолчания, вынужденные сопряжения «далековатых идей» — наиболее распространенные методы создания подобных «глобальных моделей». Из этого пренебрежения обильно представленным фактическим материалом вытекает и весьма сомнительная с позиции современного состояния науки периодизация, предлагающая выделять пять «жизненных фаз» соцреалистического канона.
1. 1900–1920-е годы: фаза протоканона как подготовительная стадия и резервуар текстов («основных литературных образцов соцреализма») собственно канона.
2. Первая половина 1930-х годов: фаза канонизации, в которой канон формируется как более или менее систематическое целое по отношению к другим традициям. Гюнтер выделяет внутри этой фазы два этапа.
2. 1. Вытеснение и элиминация конкурирующих направлений в литературе («прямая трансляция нового содержания из области идеологии»)
2. 2. Введение и разработка лозунга соцреализма
3. 1935/36–1952 годы: фаза применения канона, при которой полностью проявляются его механизмы.
4. 1953 — начало 1970-х годов: фаза деканонизации, при которой канон расширяется и перестает быть обязательным.
5. Период с 1970-х годов: постканоническая стадия, возникающая после распада канона.
В стремлении показать единство и непрерывность хода «литературной эволюции» Гюнтер не учел того, что преисполненную динамикой культурную обстановку середины — конца 1930-х годов попросту невозможно сопоставить со сложившейся в эпоху позднего сталинизма ситуацией, которую характеризуют видимость совершенного отсутствия процессуальности как таковой, недостаток «реального движения и собственной критики как внутреннего саморегулятора». Пристальный взгляд на культурную ситуацию 1930–1950-х годов, учитывающий принципиальную новизну организации взаимоотношений между текущим процессом производства текстов и восстанавливавшимся в те же годы классическим национальным литературным каноном досоветского времени, как представляется, обнаруживает альтернативные гюнтеровскому пути описания и анализа этой ситуации, позволяет уточнить траекторию оформления социалистического канона и определить, посредством каких механизмов задавались ключевые параметры сталинской культуры, нашедшие воплощение в ее «выдающихся» образцах.
Более чем 20-летний период эволюции сталинизма, вместивший в себя ужасы Большого террора и ГУЛАГа, мировую войну, вскоре после окончания переродившуюся в войну холодную, и десятки погромных идеологических кампаний, характеризуется чрезвычайной нестабильностью культурного поля. Сама «теория социалистического реализма» на пути к «отвердению» в «классических» образцах позднесталинского «синтетического литературоведения» (несколько иронично уже в конце 1940-х годов звучал тезис Фадеева о том, что «такого литературоведения, как у нас, нет нигде в мире»), как может показаться на первый взгляд, неоднократно изменяла свою сущность, тем самым закономерно определяя направление трансформации текстового канона. Однако эта доминирующая в западной славистике с 1980–1990-х годов точка зрения предполагает расширительный поход к пониманию соцреалистического канона и основывается на заведомо недоказуемых теоретических абстракциях, скорее апеллирующих к интуитивным представлениям. Иначе говоря, реализованный в обсуждаемой работе Гюнтера подход, направленный на экспликацию основных параметров социалистической доктрины и вместе с тем весьма ограниченно характеризующий текстовый канон сталинизма, обходит вниманием одно принципиальное обстоятельство: советские писатели в своей практике не руководствовались отвлеченными постулатами «теории социалистического реализма», а ориентировались на вполне конкретные образцы, входившие в «ядро» советского литературного канона. Вместе с тем степень «каноничности» того или иного текста определялась не реализацией в нем всевозможных мифов, архетипов «бессознательного», идеологических постулатов и т. д., а работой вполне конкретных институциональных механизмов, определявших его положение в иерархии сталинской культуры. Первым в ряду этих механизмов, несомненно, была Сталинская премия по литературе, потому как множество институций оказывались прямо связаны с созданием литературной продукции, с формированием текстового канона соцреализма, но лишь одна из них «кодифицировала» волю самого Сталина, тем самым структурируя уже оформленное культурное поле, организуя его центр и периферию. Из этого следует еще одно ключевое для нас положение: говорить о складывании собственно социалистического культурного канона до начала 1940-х годов невозможно по причине того, что механизмы формирования и стабилизации этого канона в конце 1920-х — 1930-е годы попросту не были до конца отлажены.
Строго говоря, социалистический канон как иерархическое соположение литературных текстов — принадлежность эпохи позднего сталинизма. Сама советская установка на производство культуры сделала невозможным разговор об авторской индивидуальности, о фигуре создателя произведения. Псевдомиметическая природа соцреализма предполагала «правдивое, исторически-конкретное изображение действительности в ее революционном развитии», из чего следовало, что любой человек, который взялся бы «правдиво» изобразить «советскую действительность», мог претендовать на создание подлинно социалистического текста. Очевидно, таким образом, что «творческий метод» не существовал как «нормативная поэтика», то есть как санкционированная государством совокупность требований к внутренней структуре и сущностным свойствам литературного текста. Представление о «правильности» произведения формировалось сугубо практически: сами писатели в процессе чтения чужих книг усваивали схемы (идеологические, образные, сюжетные), на которых они строились, и стремились воспроизвести их в собственных текстах в надежде на повторный успех. Канон переставал функционировать и как перечень обязательных к осмыслению, прочтению и изучению текстов, так как каждый из них представлял собой лишь фрагмент (пусть и предельно концентрированный) того идеологического поля, с которым читатель не просто соприкасался, а в котором он существовал. Поэтому главным содержанием этих произведений оказывались не вложенные в них смыслы, прекрасно знакомые каждому советскому человеку, но реализованные в текстах поведенческие модели, идеологическая модальность. В этом смысле литература была отнюдь не «учебником жизни», она подменяла эту жизнь, создавая у читателя в голове особый образ действительности, который окончательно вытеснял из массового сознания представления о реальном положении дел. Так, в передовой «Высокая ответственность советского литератора», опубликованной в «Литературной газете» в январе 1947 года, провозглашалось: «Чем более велик писатель, тем более страстно стремится он к тому, чтобы литература была необходима для жизни, как хлеб, как воздух. <…> Литература <…> должна участвовать в строении, в активном деланьи жизни, воспитании человеческих душ». И далее: «Поэзия переходит в жизнь, потому что сама жизнь в нашей стране стала поэтической».
Если принимать предложенное Б. Дубиным и основанное на разграничении читательских контингентов выделение «институционального», «актуального» и «модного» канонов, то соцреалистический канон объединял в себе черты всех перечисленных. Сталинский эстетический канон по природе своей нетипичен, потому как он не явился итогом долгосрочного естественного развития литературы. Кроме того, контролируемое чтение теряло канонообразующий ресурс, из механизма селекции текстов превращалось в инертный процесс их потребления. Само развитие советской официальной культуры состояло в постепенном накоплении некогда оформившихся тенденций, накладывавшихся друг на друга, но не исчезавших полностью. Закономерное увеличение противоречий между этими тенденциями в итоге и стало причиной стремительного демонтажа соцреалистического канона и буквальной «отмены» культуры послевоенного десятилетия.
Такой подход к описанию подвижной культурной ситуации «малого двадцатого века» идет вразрез с принятой в научном сообществе логикой структурирования литературного процесса сталинского периода и требует поиска новой теоретической рамки, при помощи которой удалось бы предложить адекватное решение вопроса о статусе и месте предвоенной эпохи в истории советского официального искусства. Дело в том, что динамика официального искусства сталинизма в 1930-е годы в условиях отсутствия санкционированной государством установки на конструирование проекта советской литературы определялась не столько вектором эстетической эволюции, сколько метаморфозой политического режима. Слишком малая степень контроля над культурным полем в предвоенные годы не позволяет говорить о жесткой регламентации культурной сферы: в относительно свободном пространстве печати, из которого устранялись лишь самые идеологически неприемлемые тексты, продолжали действовать естественные принципы структурирования литературного производства. В такой обстановке попросту не могли сложиться механизмы формирования канона сталинской культуры, а иерархия писателей как, по сути, единственный способ проявления властной интенции в искусстве той эпохи выстраивалась как при помощи директив (обыкновенно они касались фигуры писателя), так и посредством критического отбора образцовых литературных текстов из массы печатной продукции, затем становившихся основой школьных и университетских курсов советской литературы. (К числу этих образцовых текстов в 1930-е годы принадлежали романы М. Горького, Н. Островского, А. Серафимовича, А. Фадеева, Д. Фурманова, М. Шолохова и проч., однако позднее наметилась потребность в переосмыслении идеологических и эстетических параметров этих текстов, с чем связано, например, появление в «Литературной газете» рубрики «Перечитывая книги».) Но проблематика культурного производства сталинской эпохи отнюдь не исчерпывается этим аспектом существования литературы внутри социума. Заметно расширившееся и углубившееся в последние годы представление о положении дел в предвоенном СССР делает очевидным, что куда большим объяснительным потенциалом обладает исследование принципов «культурной селекции», определявшей круг «классических» текстов и уточнявшей статусное ранжирование советских авторов.