Рыбы бессловесные твари
Фрагмент сборника «Казенный дом»
Лично я любила ходить в детскую поликлинику, потому что там были рыбки. Гуппи в аквариуме. Цвета старого серебра, с яркими желтыми пятнами у основания хвоста. Мне они казались прекрасными.
Мы шли мимо пышных каштанов, отбрасывающих четкие тени, мимо киосков с мороженым, которое мне не разрешалось есть, мимо универмага, из-за стеклянных витрин которого на прохожих равнодушно смотрели искусственные женщины в шляпках и нарядные искусственные дети… Когда бабушке было лень идти, мы ехали на такси.
Задним числом понимаю, что в детстве у меня было не так уж много развлечений, если ради этих самых гуппи я соглашалась, чтобы мне в горло лезли холодной плоской ложкой и больно давили на корень языка. То есть я лет с пяти была готова к тому, что за удовольствия надо расплачиваться, и расплата эта придавала удовольствию некоторую законченность.
Впрочем, один раз такой поход закончился радикально: вместо кабинета с рыбками меня отвели в кабинет с большим кожаным креслом («Садись, сейчас посмотрим горлышко, открой ротик») и зачем-то пристегнули руки к подлокотникам. Я ничего не заподозрила, и это делает честь моему идиотизму и тотальной доверчивости — рот я открыла. После чего там сначала что-то сделали длинной иголкой, а потом такими длинными загнутыми щипцами — про щипцы я не вспоминала, пока не начала это писать. Зато теперь вот вспомнила. Похожими щипцами из клетки вынимают крыс, чтобы убивать их для науки — так называемый «острый опыт».
Онемевшим горлом, захлебываясь кровью, я смогла только пробормотать укоризненно: вы же взрослые, вы же должны понимать, как мне больно. После чего мне пообещали купить рыбок после того, как заберут домой. Но рыбки меня в тот момент не очень радовали.
Я потом выучилась на ихтиолога, но это, по-моему, случайное совпадение.
В палате, куда меня положили, обещая забрать домой завтра и тут же, тут же купить рыбок, незнакомая черноволосая, с очень красным лицом девочка моих лет кашляла на соседней койке; врач на осмотре говорила, что у нее в горле застряла рыбья кость, и тоже лезла ей в горло ложкой. Мне ее не было жалко.
У девочки оказалась корь, кашляла она из-за высыпаний на слизистой. Корью я до того не болела. Да, все так, я заразилась корью, но уже после того, как меня прооперировали — аппендицит. Вот только не надо смеяться: после удаления гланд часто воспаляется аппендикс, это как-то связано с иммунным барьером, что-то они такое делают вместе, трудятся, обезвреживают инфекции. И аппендикс, оставшись один на один с превратностями этого мира, идет вразнос.
Удивительно, что моя бабушка, некоторым образом врач, этого не знала, и по совету первой скорой клала мне на живот грелку, что при аппендиците категорически противопоказано, пока третья скорая не поставила все-таки правильный диагноз и не увезла меня с собой.
Дальше какая-то суета, опять эта мерзкая койка (уже другая, но в моем сознании они смешались), попробуй надуть этот шарик, а теперь считай до десяти, и опа, просыпаешься, а у тебя на животе мешок с песком и вцепившийся в кожу ряд металлических скобок, и мерзкий сладковатый вкус во рту. И пить нельзя, но можно дольку апельсина.
«Мы подарили хирургу хрустальную вазу, доверху наполненную конфетами», — укоризненно говорила бабушка, и я понимала, что обхожусь очень недешево.
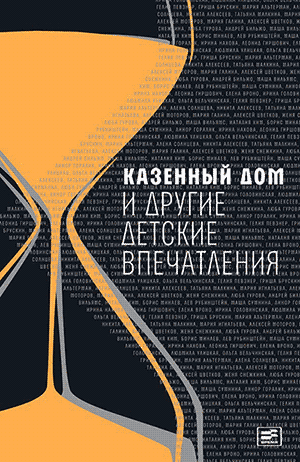 Школу я в том году, понятное дело, пропустила, и никакого приема в первый класс с торжественной линейкой, белым фартуком и прочими прибамбасами у меня так и не было, поскольку я пошла сразу в третий — за этот год я перечитала столько, что для второго класса уже не годилась. Поэтому в школу пошла совершенной идиоткой, не знающей простейших навыков общения, но тараторившей наизусть великую грузинскую поэму «Витязь в тигровой шкуре».
Школу я в том году, понятное дело, пропустила, и никакого приема в первый класс с торжественной линейкой, белым фартуком и прочими прибамбасами у меня так и не было, поскольку я пошла сразу в третий — за этот год я перечитала столько, что для второго класса уже не годилась. Поэтому в школу пошла совершенной идиоткой, не знающей простейших навыков общения, но тараторившей наизусть великую грузинскую поэму «Витязь в тигровой шкуре».
Зато длинные истории, которые я рассказывала себе, чтобы не свихнуться со скуки, привели в конце концов к закономерному результату — я стала более-менее удачливым писателем, умеющим вытянуть из ничего относительно связную сюжетную историю; уже потом, покопавшись в литературных биографиях, я без особого удивления обнаружила подобный опыт у многих своих коллег, причем писатели-фантасты по крайней мере в этом смысле могли дать фору своим собратьям-реалистам. Уж если придумывать что-то во время вынужденного безделья, то нечто такое, от чего замирает бедный дух, уж если читать, валяясь на сбитой постели, покуда твои сверстники визжат и возятся во дворе, то про путешествия и приключения.
Пожалуй, на этом можно было бы закончить, если бы бабушке не вздумалось меня оздоровить и я по очень большому блату не отправилась по путевке в санаторий. Он располагался где-то под Киевом, в качестве приманки фигурировал прекрасный сосновый лес и занятия физкультурой, и, кажется, какие-то уроки тоже, чтобы догнать школу. Ничего из этого я не помню, хотя пару дней там все-таки провела. Помню только такую же палату, как в больнице (больницах), много коек и каких-то девочек, которым я пыталась рассказывать страшные истории. Взамен одна из них сдавленным голосом сказала, что у нее есть фигурка, которая светится в темноте. Надо отдать должное моему апломбу и тупому скептицизму — я ей не поверила, о чем заявила громко и решительно, и тогда она, наполовину прикрыв сокровище одеялом, чтобы мрак был гуще, показала нечто тускло светящееся зеленоватым светом. Фосфорные фигурки тогда были в моде — это был то ли орел, то ли олень. Других, кажется, не выпускали. Потом их признали ядовитыми и выпускать перестали.
Остальное помню плохо, потому что у меня подскочила температура, и срочно вызванная медперсоналом бабушка извлекла меня из этого странного места. С тех пор температура у меня всегда поднималась в стрессовых ситуациях; очень полезное качество, которое меня не раз выручало, выручило и в тот раз: санаторий оказался туберкулезным. Останься я в нем подольше, было бы как с корью.
Что меня до сих пор удивляет во всей этой истории, это слепое, неоправданное доверие взрослым, их словам и поступкам, сродни доверию собаки, которую люди в белых халатах по коридору ведут на опыты. Почему я не вцепилась в руку этой обманувшей меня паскудины («открой ротик, сейчас посмотрим горлышко»)? Почему не укусила ее? Почему не рассматривала возможность бунта? Почему вообще соглашалась туда ходить? Из-за сраных рыбок?
Механизмы этой робкой покорности по отношению к вышестоящим, к взрослым, которые знают и понимают больше, чем ты, к тем, у которых в руках что-то блестящее и металлическое, к тем, кто в форме, к тем, кто говорит властным голосом, вообще штука занятная. Детям-то простительно.
Впрочем, подозреваю, что плохих девочек просто кормят какими-то успокаивающими таблетками… Быть может, меня и кормили успокаивающими таблетками — в таких случаях употребляют тактичное словосочетание «возбудимый ребенок». Мне вообще давали много разных таблеток. Наверное, надо было их выплевывать, как делают умные люди в дурке.
Потом мы все-таки поехали на Куреневку покупать рыбок. И я узнала, что гуппи могут быть гораздо, гораздо красивее, чем в поликлинике. Во-первых, да, вуалехвостые. Во-вторых, неоновые (есть еще рыбки-неонки, это другие рыбки, хотя примерно из одного региона, из Латинской Америки). В-третьих, бархатные, черные. Продавцы на рынке наклеивали на заднюю стенку аквариума черную бумагу, чтобы гуппи лучше играли радужным своим опереньем, разноцветными своими телами, светящимися, словно запретные фосфорные фигурки в страшном мраке санаторной палаты.
Гуппи в поликлинике были самые примитивные, выродившиеся.
А на Куреневке — да, гуппи были шикарные. Я уже не говорю о полосатых и юрких данио-рерио, этих аквариумных стоиках. О плоских скаляриях, тоже полосатых, но в вертикальную полосу. О покрытых нежной жемчужной сыпью гурами. О меченосцах, у которых передняя половина тела красная, а задняя — черная, о других меченосцах, более редких, розово-зеленых… Кстати, меченосцы, как и гуппи, обладают выраженным половым диморфизмом — вырост на хвосте, этот самый меч, есть только у самцов. Правда, расцветкой они победнее, чем гуппи. Но тут уж ничего не поделаешь.