Русское аутодафе
Из «Людей и городов» Ивана Давыдова
Новая книга Ивана Давыдова «Люди и города» посвящена людям, которым довелось родиться в уникальном мире, собственно, русского Средневековья, чтобы стать героями своего времени. Но героями, чьи подвиги были не воинскими, а человеческими. Предлагаем прочитать отрывок из этого труда, открывающего много нового в, казалось бы, давно изученной теме.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Иван Давыдов. Люди и города. Путеводитель по русскому Средневековью. М.: Individuum, 2025. Содержание
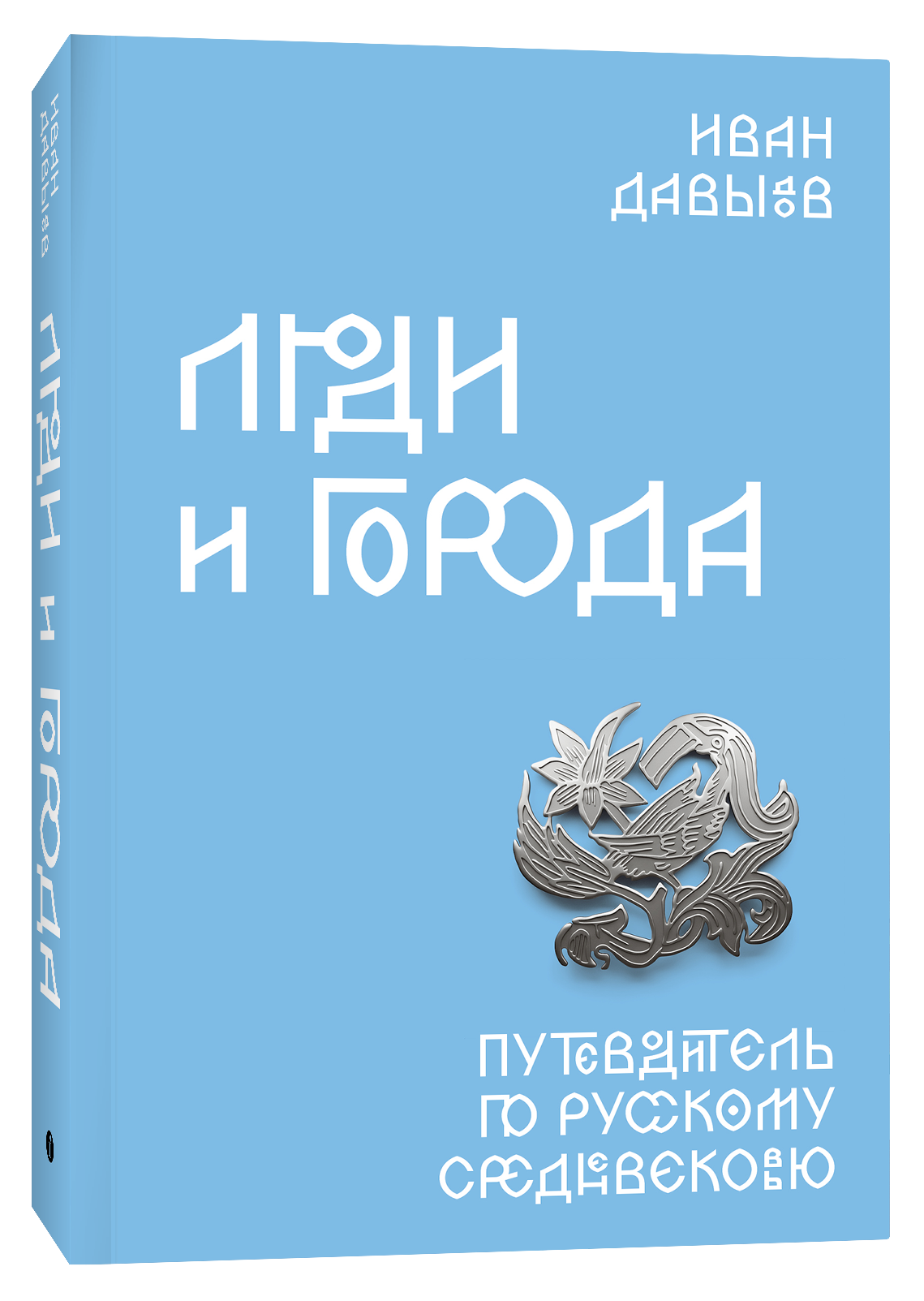
У преподобного Нила Сорского в Кирилло-Белозерском монастыре был друг и ученик — монах Гурий. Гурий — боярского рода, а вот Нил в сохранившемся послании к нему называет себя «невежей и поселянином». Но это еще ничего не значит — человеку, который из мира ушел, о себе положено высказываться уничижительно. Еще один ученик Нила — Герман Подольный — оставил нам небольшую книгу, которую принято называть «Германовым сборничком». Это и летопись, свод сведений о жизни в монастыре, и заметки о вопросах, которые волновали Нила и его окружение, — следует ли казнить еретиков, например? Позволительно ли монахам владеть землей? В «Сборничке» упоминается, что в 1502 году скончался монах Арсений, брат святого Нила. Арсений — в миру Андрей Федорович Майко — при Василии Втором и при Иване Третьем занимал видные должности и выполнял серьезные поручения: возил пожертвования великих князей и княгинь в разные монастыри (и в Кирилло-Белозерский в том числе), участвовал в переговорах с литовцами. От него берет начало дворянский род Майковых, и если так, то Нил вовсе не «поселянин», а служилый человек, да не из последних. В современных официальных житиях так прямо и пишут — «происходил из рода дворян Майковых», хотя это все-таки не совсем корректно.
Имя до пострига — Николай, родился в 1433 году, с пятидесятых годов XV века — монах в Кирилло-Белозерском монастыре. После двадцати лет иноческой жизни — про странное путешествие: Кирилл посетил Палестину, Константинополь и монастыри на Афоне. Странствовал не менее десяти лет, долго жил в афонских обителях, изучал их устав. Собственно, рассуждения о том, как правильно монаху жить, что делать и чего не делать ни в коем случае, — вот основной его интерес. Нестяжательство, идея отказа от земельных владений, — только производная от этих рассуждений.
Монастырь — важное место для понимания средневекового мироустройства. Мир предков наших определяла вера; они точно знали, чем этот мир кончится, и знали, в чем настоящий смысл человеческого бытия: смысл — в обретении спасения, в жизни будущего века. Монастырь, место, куда уходят, чтобы посвятить себя службе Богу, удалившись от соблазнов, — своеобразная фабрика спасения. Но в русской (да и не только в русской) истории мы раз за разом видим, как повторяется один и тот же сценарий: сначала святой подвижник бежит от мира в дикие дебри, спасаться. Но чем громче слава его подвигов, тем больше вокруг последователей. Так было с самым знаменитым из русских святых, Сергием Радонежским, — с ним мы встретимся в следующей главе. Так было с Германом и Савватием, основателя ми Соловецкого монастыря, где подвизался впоследствии святой Филипп, бесстрашный обличитель Грозного. Так было и с Кирилло-Белозерским монастырем, и со многими другими монастырями, появившимися благодаря трудам учеников святого Сергия.
Разрастаясь, монастыри привлекают уже не только тех, кто хочет уйти от мира, но и тех, кто хочет спастись, оставаясь в миру. Сильные мира сего одаривают монастыри деньгами, драгоценной утварью и, конечно, землями. И людьми, которые на землях живут и трудятся. В те времена крестьянствующий человек отдельно от земли не мыслится, крестьянин и земля — одно. Без крестьянина земля — всего лишь пустошь, но и крестьянин без земли обречен на выпадение из нормального существования. И вот уже самые славные, а значит, и самые богатые монастыри — это целые города, защищенные могучими стенами и окруженные подвластными землями. Трудно не почувствовать тут некоего противоречия — странно ведь, что место, смысл которого в том, чтобы дать человеку, решившему уйти из мира, такую возможность, оказывается еще и средоточием земных благ. Это противоречие почувствовал и святой Нил. Кстати, русские государи время от времени тоже начинали что-то такое чувствовать: они вели войны, им нужны были деньги и люди. И конечно, земли — главный источник богатства. Забрать у Божьих людей мирское — серьезный соблазн. Империя ему поддастся, и монастыри своей земельной собственности все-таки лишатся, но позже — в XVIII веке.
Пытаясь приспособить знания о правильной монашеской жизни, полученные на Афоне, к русским реалиям, Нил пришел к выводам, которые и озвучил на московском соборе 1503 года: монастырям не нужна власть, не нужна собственность, не нужна земля. Пост, молитва, умное делание — вот занятия для монаха. Вспоминать священные книги, повторять их слова, размышлять над ними он должен, а не управлять крестьянами или думать о том, как с выгодой расторговаться солью.
Даже в церквях роскошь не нужна — деревянные сосуды для совершения таинств ничем не хуже золотых. Богу важны наши души, а не этот нелепый блеск. Тó важно, что внутри, между Богом и человеком, а не драгоценные оклады на иконах. Священная книга — это слова, а не украшенная сияющими каменьями обложка. «Не в бревнах Бог, а в ребрах» — говорится в старинной русской пословице.
Нил был радикален, шел до последних пределов, он даже работу на земле для монахов требовал запретить — в земледелии много суетности, отвлекающей от созерцания. Впрочем, всю работу в монастырях должны, разумеется, делать монахи, никаких слуг у них просто не может быть. Допустимо и ремесленничество — с тем, чтобы обменивать сделанное в монастырях на еду. Но такая меновая торговля возможна лишь себе в убыток, иначе все обернется греховным мздоимством.
Это, конечно, революционная программа. Между прочим, вполне возможно, что у святого, предлагавшего лишить монастыри земель и крестьян, был сильный покровитель — сам великий князь Иван Третий. Ивану земли и крестьяне точно не помешали бы. Но тогда Нил проиграл — оппонент его, Иосиф Волоцкий, выступивший в защиту монастырского землевладения, оказался куда более убедительным.
Огненный игумен
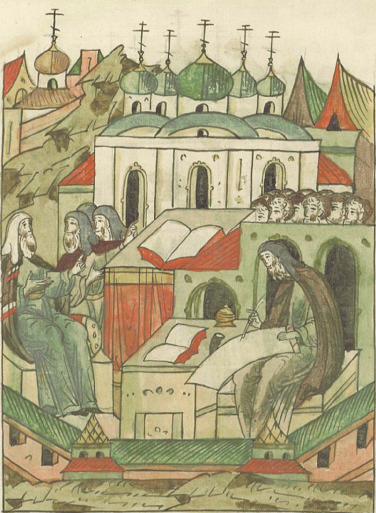
Мирское имя святого Иосифа — Иоанн Санин, он дворянин из-под Волоколамска, чьи предки когда-то пришли на Русь из Литвы. Иосиф чуть моложе Нила, родился в 1439 году. С семи лет — при Крестовоздвиженском Волоколамском монастыре, в учениках у старца Арсения. В житии — все так, как и должно быть в житии: юный Иосиф проявляет необычайное рвение в изучении Святого Писания, за год осваивает Псалтирь, читает в храме и поет в хоре. Но, кажется, в его случае это больше, чем обязательный житийный троп, — он и правда человек начитанный, изощренный богослов. Таким его знаем и помним.
В двадцать лет решает принять постриг, идет в Тверь, к старцу Варсонофию. Но в Твери, как ему кажется, монахи живут слишком вольготно, а он вожделеет подлинной строгости. Да, заметьте, это важно: мы еще увидим, что святой Иосиф — борец за церковные богатства, но не за монашескую праздность. Иосиф отправляется искать настоящей строгости в Боровск, к тамошнему подвижнику Пафнутию. Святой Пафнутий Боровский — ученик святого Никиты, а тот, в свою очередь, учился у святого Сергия Радонежского. От самого кроткого из русских святых до самого, пожалуй, грозного — совсем короткая цепочка.
После смерти Пафнутия Иосиф стал настоятелем его монастыря, но поссорился с братией, вынужден был уйти, потом вернулся, заручившись поддержкой великого князя, снова не поладил с монахами… В конце концов он решил основать собственную обитель. Так в 1479 году недалеко от Волоколамска появился Успенский монастырь, который мы теперь называем Иосифо-Волоцким.
Его монастырь должен был отличаться от прочих предельной строгостью правил, и с учениками он объезжал знаменитые обители, чтобы учесть их опыт. Был и в Кирилло-Белозерском, но с Нилом едва ли виделся — Нил в это время, скорее всего, путешествовал по Афону.
И сам монастырь, который создал святой Иосиф, — это словно бы ответ святому Нилу, причем еще до начала открытой полемики о нестяжательстве. Неотразимый каменный аргумент. Легко, упрощая реальность и поддаваясь очарованию терминов, предположить, что «стяжатель» Иосиф отстаивал монашескую роскошь. Но нет, вовсе нет и ровно наоборот. Строгость в монастыре царила такая, что это вызвало ропот братии. Монахи даже доносы сочиняли на своего игумена и отправляли великому князю. Тяжкие труды, изнурительные посты, запрет держать в кельях иконы и книги — вот на что он их обрек и чему сам неуклонно следовал.
При этом монастырь богател, обзаводился селами, и этого подвижник вовсе не стеснялся. Его не волновало то противоречие, которое увидел Нил; для него здесь, собственно, никакого противоречия и не было. Да, монах должен быть нищим. Но церковь должна быть богатой. А храмы должны быть прекрасными — это не роскошь, это дань почитания, которую мы обязаны воздать Господу. Храм — свидетельство величия Божьего, и простецу легче в этом величии увериться, созерцая здешнюю, данную нам в ощущениях, красоту.
И богатство церкви нужно не мирской суеты ради, но для того, чтобы творить дела милосердия. Иосиф был человеком деятельным, и от слов своих в делах не отступал. Над украшением храма в его монастыре трудился великий Дионисий; некоторые иконы его работы сохранились, и, кажется, от них исходит сияние. Главный — Успенский — собор монастыря, которым мы можем сегодня любоваться, построен много позже, в конце XVII века. Но видно, что насельники не забыли заветов основателя — он величественный и в то же время нарядный, все — благодаря веселым расписным изразцам. Раньше рядом стояла огромная колокольня, теперь — только остов. Колокольню взорвали в сорок первом, чтобы немецкие артиллеристы не могли использовать ее в качестве ориентира.
Но главное, конечно, в том, что, когда случался голод, монастырь кормил окрестных крестьян. Буквально спасал от смерти; это тоже не всех монахов устраивало — находились такие, которые считали, будто игумен взялся бездумно транжирить монастырские запасы. Тех же самых крестьян, которые трудились на монастырских землях, создавали для монастыря богатство и с которыми — в полном соответствии со взглядами времени — не всегда обращались особенно гуманно. И если бы не был монастырь богатым, как бы он смог поучаствовать в деле спасения христианских душ? Здесь, на земле не дать им погибнуть в муках?
Это все и стало доводами в споре, хотя Иосиф — человек, читавший много и охотно, — украсил речи ссылками на писания святых отцов и примерами из жизни прославленных русских подвижников, которые против монастырского землевладения никак не возражали.
Прощение и пламя
Чтобы лучше понять этих двух святых, нам стоит, пожалуй, отвлечься от главного предмета их несогласия и разобраться с еще одним любопытным сюжетом. Хотя все здесь переплетено, конечно, — все увязано: оба были людьми цельными и последовательными.
В 1484 году Иван Третий, великий князь московский, поставил в Новгород архиепископом Геннадия, который до того был игуменом Чудова монастыря в Москве. Новгородцам, которые о древней своей вольности еще не забыли, — республика ведь перестала существовать менее десяти лет назад, — было это неприятно и оскорбительно. Поползли по городу слухи, что Геннадий якобы кафедру получил за денежную взятку. Доходило дело и до прямого неподчинения. Геннадий сдаваться не собирался и приступил к изучению ситуации на месте. Непросто теперь сказать, обида ли двигала москвичом или действительно в городе не все было ладно с делами веры, но вскрылись вещи страшные.
Уличены были, например, два попа, которые якобы глумились над святыми иконами. Дальше — больше: оказалось, что для Новгорода это не такая уж и редкость. Нашлись люди, которые учились по каким-то «тетратям» (Геннадию удалось эти «тетрати» добыть) и проповедовали новое учение, подрывая самые основы православия. К делу подключилась светская власть, из Москвы для расследования прибыли высокопоставленные чиновники.
На самом деле мы не так уж и много знаем о том, чем была обнаруженная Геннадием «ересь жидовствующих». А бóльшую часть из того, что знаем, знаем как раз от Иосифа Волоцкого. Один из главных трудов святого, «Просветитель», посвящен в том числе и разоблачению еретиков.
Новгород, открытый западным влияниям, следил за ходом реформации в Европе и пытался ее осмыслить. Находились, очевидно, люди, которые считали, что поклонение иконам — практика скорее языческая и что официальная церковь — избыточный, ни для чего не нужный посредник между человеком и Богом. Вот на них, похоже, Геннадий в ходе расследования и натолкнулся. Но сохранившихся документов недостаточно, чтобы однозначно судить о том, как много было сторонников у новой ереси, была ли у них единая организация и насколько детально успели они проработать свое учение.
Тем не менее московские следователи работали хорошо: число уличенных в ереси росло; выяснилось, что в столице тоже есть последователи новгородских лжеучителей, причем не просто в столице, а вблизи государя. Якобы Фёдор Курицын, знатный боярин, дипломат и писатель, — среди приверженцев ереси. Кстати, Курицын среди прочего написал «Сказание о Дракуле воеводе» — историю безжалостного к своим врагам валашского князя, который позже благодаря Брэму Стокеру станет прародителем всех вампиров вселенной.
Тут история не такая уж и простая: в деле замешана высокая политика. Великий князь Иван Третий старел, придворные задумывались о транзите власти, претендентов на престол было двое — внук государя Дмитрий Иванович, сын Елены Волошанки, дочери господаря Молдавии, и сын Ивана от византийской принцессы Софии Палеолог, Василий. Фёдор Курицын держал сторону Дмитрия и Волошанки, обвинение в ереси — настоящий подарок для придворных интриганов. Выиграла, как известно, партия Василия, он и стал следующим великим князем. Но вот был ли Курицын еретиком на самом деле — вопрос запутанный: клевета — испытанное оружие в склоках у престола. Впрочем, судя по его рассуждениям о «самовластии человеческом» — о свободе воли, сказали бы мы теперь, — от учения официальной церкви он все-таки отступил.
В полемику против еретиков вступил Иосиф Волоцкий, и, если верить его «Просветителю», в деле обнаружился еврейский след: Иосиф утверждает, что родоначальником ереси был еврей Схария (вероятно, Захария), который прибыл в Новгород в свите литовского князя Михаила Олельковича и смущал православных, распространяя ложные учения. И святому можно поверить: время-то было совсем опасное, в 1492 году от Рождества Христова, то есть в 7000-м от сотворения мира, многие ждали конца света. Ходили по рукам разные брошюрки, в том числе составленные еврейскими учеными, — наверняка и они влияли на настроения пытливых новгородцев, искавших истины вне церкви.
Для осуждения еретиков созвали в 1490 году собор, на него был приглашен Нил Сорский — как один из самых авторитетных церковных деятелей эпохи. Еретиков отлучили от церкви, и это — вовсе не гуманное наказание: вне церкви они теряли надежду на спасение, такое много хуже, чем физическая смерть.
Но это не всех устроило. Иосиф и Геннадий хотели для осквернителей веры иного. Геннадий общался с приезжавшими в Новгород иностранцами, слушал их рассказы, и, судя по всему, ему вполне по сердцу пришлись практики католической инквизиции. Иосиф также считал, что костер — вполне заслуженное для еретиков наказание.
И для новгородцев, осужденных по делу о ереси жидовствующих, Геннадий устроил все-таки что-то вроде гражданской казни: их возили по городу, задом наперед усадив на лошадей. В нелепых нарядах, в дурацких берестяных колпаках, с табличками на груди: «Это воинство Сатаны». Потом колпаки сожгли прямо на головах у несчастных. Трудно не рассмотреть в жестокой постановке отголоски испанских аутодафе.
При этом московские придворные еретики никак не пострадали. Тогда их черед еще не пришел. Великий князь Иван учитывал разные политические резоны и до времени не тронул ни Елену Волошанку, ни главного ее сторонника Фёдора Курицына. С ними разобрались позже: Елена и сын ее, внук великого князя, отправились в темницу, брат Фёдора Курицына был казнен, что сталось с самим Фёдором — неизвестно, но едва ли что-нибудь хорошее.
Нил безусловно осуждал ересь. Больше того, мы знаем, что он читал «Просветителя» и даже собственноручно выписал из него некоторые фрагменты, посвященные борьбе с еретиками. Но вот что он думал о необходимости жестокого наказания для приверженцев богопротивных учений? Тут судить можем только по косвенным указаниям.
В 1504 году был еще один собор против еретиков. Звездный час Иосифа Волоцкого: государь спросил богослова, не грешно ли казнить провинившихся. Это не только не грех, это обязанность великого князя, ответил Иосиф. После собора обвиненных сожгли. Но не на кострах, по католическому обычаю, а по-нашему — заперев в деревянных срубах.
И сразу же после казни появился небольшой полемический трактат — «Слово на списание Иосифа» (то есть на составленный Иосифом текст против еретиков, «список»). Автор «Слова», вероятнее всего, инок Вассиан, в миру — князь Василий Патрикеев из рода Гедиминовичей, человек знатнейший и влиятельный. Мы, кстати, еще увидимся с ним в следующей главе. Вассиан — ученик Нила Сорского, и он не жалеет язвительных слов, обличая волоцкого игумена. С его точки зрения, оружием против еретиков должен быть диспут. Не на силу светской власти надо опираться, а на силу правого слова. И уж конечно, все искренне раскаявшиеся заслуживают прощения. А тот, кто верит в свое право сжигать людей живьем, должен и сам войти в огонь: ведь если истина за ним, то разве Господь не пощадит его? Разве не прекрасным аргументом в споре станет такое чудесное спасение? Так чего же бояться, проявляя маловерие?
Но так говорил Вассиан, а вот так ли думал Нил? Хочется верить, что да, как-то так.