Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Федор Достоевский. Бобок. М.: Cheapcherrybooks, 2022
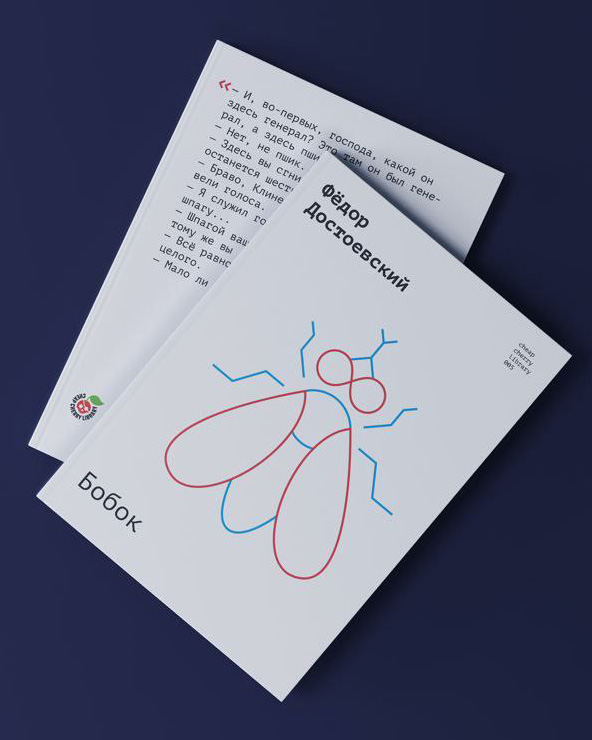 Рассказ «Бобок», впервые опубликованный в 1873 году в авторской рубрике «Дневник писателя» еженедельника «Гражданин» (Достоевский тогда был и автором, и редактором издания), можно отнести к наиболее энигматичным текстам Ф. М. Достоевского. Что такое бобок? Каковы основные идеи рассказа? В чем состоит «тайна, неизвестная смертному», существование которой ощущает на кладбище литератор-визионер Иван Иваныч, наблюдавший диалог разлагающихся мертвецов? Попробую ответить на эти вопросы по существу, как я их сам понимаю, не обременяя без необходимости текст предисловия отсылками к многочисленным мнениям других достоевсковедов, подробное изложение которых может скорее запутать читателя и привнести дополнительный шум на и без того кричащее на разные голоса кладбище «Бобка».
Рассказ «Бобок», впервые опубликованный в 1873 году в авторской рубрике «Дневник писателя» еженедельника «Гражданин» (Достоевский тогда был и автором, и редактором издания), можно отнести к наиболее энигматичным текстам Ф. М. Достоевского. Что такое бобок? Каковы основные идеи рассказа? В чем состоит «тайна, неизвестная смертному», существование которой ощущает на кладбище литератор-визионер Иван Иваныч, наблюдавший диалог разлагающихся мертвецов? Попробую ответить на эти вопросы по существу, как я их сам понимаю, не обременяя без необходимости текст предисловия отсылками к многочисленным мнениям других достоевсковедов, подробное изложение которых может скорее запутать читателя и привнести дополнительный шум на и без того кричащее на разные голоса кладбище «Бобка».
Начиная вести рубрику «Дневник писателя», Достоевский вовсе не хотел создавать некие вычурные сатирические мистификации ради одной только интеллектуальной игры и публицистической полемики или напускать плотный, непроницаемый туман при освещении актуальных литературных и жгучих социальных вопросов своего времени. Напротив, его главной задачей было ясное и откровенное напоминание обществу о позабытом и затемненном идеале жизни в Боге, отвергаемом большинством тогдашней интеллигенции из соображений набирающих силу прогрессизма, нигилизма и позитивизма. За всеми этими «измами» в конечном счете стоял один основной — атеизм, адепты которого прикрывались высокими идеями утверждения социальной справедливости, прав личности и политических свобод и яростно отрицали при этом бессмертие человеческой души, существование загробного мира и безусловность нравственных оснований мировоззрения, уходящих корнями в христианское вероучение.
Собственно эта рубрика и начиналась с размышлений писателя о том, что «не понимать религии» и «не понимать искусства» стало теперь слишком модно, так что тот, кто «в наше время задумывается» и стремится «учиться и понимать», а особенно тот, кто «объявит об этом искренно» и «заявит, что уже капельку понял и желает высказать свою мысль», — тот «немедленно всеми оставляется».
Характерно воспоминание Достоевского о выдающемся критике сороковых годов Виссарионе Белинском (1811—1848): «Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного, — именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интернационалка в одном из своих воззваний, года два тому назад, начала прямо с знаменательного заявления: “Мы прежде всего общество атеистическое”, — то есть начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский. Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что одни разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную “гармонию”, в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему — начала нравственные. В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально». За более чем четверть века, прошедшие после разговоров Достоевского с Белинским, к началу 1870-х годов эти убеждения среди прогрессивных российских публицистов, критиков и прочих интеллектуалов стали едва ли не господствующими. Полемикой писателя с ними пронизаны романы «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы» (1872) и в том числе разбираемый нами рассказ «Бобок» (1873).
Россия того времени, с учетом вышесказанного, представлялась Достоевскому «какой-то трясиной, болотом, на котором кто-то затеял построить дворец. Снаружи почва как бы и твердая, гладкая, а между тем это нечто вроде поверхности какого-нибудь горохового киселя (здесь и далее выделено мной. — Н. П.), ступите — и так и скользнете вниз, в самую бездну». Тут мы начинаем приближаться к бездне бобка, обнажающей духовную бедность и нравственную нищету человека Нового времени. Вспомним, что герой «Преступления и наказания» Родион Раскольников, помогающий семейству Мармеладовых из последних денежных средств, чтобы они не остались «на бобах», так описывал созревание своей идеи об убийстве старухи-процентщицы: «Это я в этот последний месяц выучился болтать, лежа по целым суткам в углу и думая... о царе Горохе».
Этнограф А. Терещенко в труде «Быт русского народа» (1848) поясняет, что понятие «царь горох» (или «царь боб») связано с очень древним обрядовым праздником. В этот день в народе было принято подавать первое блюдо с бобами (или с горохом), которые были наиболее доступны самым бедным и долгое время заменяли не всегда доступный зерновой хлеб (сновидение Ивана Иваныча в «Бобке» начинается после того, как он скидывает с могильной плиты недоеденный бутерброд на землю, уверяя себя, что это «не хлеб, а бутерброд», но что, «впрочем, на землю хлеб крошить, кажется, не грешно; это на пол грешно». — Н. П.). Тот, кто первый получал это блюдо из бобов, — и назывался «царь боб» (или «царь горох»).
Этот обряд существовал еще в древние языческие времена, так что выражение «царь горох» стало синонимом чего-то очень старого, архаичного, имеющего также и свою темную сторону. Ведь на бобах издавна ворожили, на что, в частности, указывает В .П. Владимирцев в своей статье о «Бобке». «Ворожба, гадание, как известно, сродни колдовству, волхвованию, чаромутию (магии), область тайного и таинственного, вторжение в стихию нечисти, потусторонности. Само слово “ворожить” происходит от “ворог”, “враг”, а это, по данным языка и этнографии, одно из наименований нечистой силы. Гадание предполагает тесную связь явлений природы (бобы из этого ряда) с судьбой человека и участие в этой судьбе духов и душ умерших; гадательные обряды и слова (тот же “бобок”) способны открывать и распознавать тайный смысл подаваемых из “иных миров” знаков. Раскидывание, бросание бобовых зерен (“Кинь бобами, будет ли за нами?”), угадывание по их символическому виду и расположению судьбоносных знаков и синхронное речевое действие (наподобие троично построенного присловья: “Бобок, бобок, бобок!” в рассказе Достоевского) — бывший в широком употреблении в Европе и России магический гадательный обряд», — отмечает исследователь.
В Библии за чечевичную похлебку (а чечевица, как и горох, относится к бобовым культурам) продал свое первородство брату-близнецу изголодавшийся Исав. Аристотель в сочинении «О пифагорейцах» писал, что мудрый Пифагор особо предписывал своим ученикам «воздерживаться от бобов: то ли потому, что они похожи на срамные члены, то ли потому, что на врата Аида (ведь это единственное растение без сочленений), то ли потому, что они пагубны, то ли потому, что похожи на Вселенную, то ли потому, что имеют олигархический смысл (ведь ими проводят жеребьевку)». При помощи волшебных бобов герой английской народной сказки «Джек и бобовый стебель», впервые напечатанной в начале XIX века, попадает в обитель великанов. В «Русских сказках» (1832) Владимира Даля «как Царя Гороха» поминали черта-послушника Сидора Поликарповича, который за свою провинность был отправлен на землю сатаной, чтобы сбивать с толку людей и выведать их секреты. Зачастую бобы, бобки (маленькие бобы) и вообще бобовые радикально меняют окружающую реальность и даже статус отведавшего их человека, а порой открывают вход в иное измерение, полное чудовищ.
Перейдем теперь непосредственно к тексту таинственного рассказа Достоевского. Он написан в излюбленном писателем жанре «записок одного лица», причем Достоевский специально подчеркивает, что автор записок не он, а «совсем другое лицо». Некий неудачливый литератор Иван Иваныч, повести и фельетоны которого не хотят печатать в литературных журналах; человек робкий, редко трезвый, со скверным характером, оказывается огорченным тем, что его считают «близким к помешательству». Он занимается переводами с французского (выпустил уже шесть переводных книг), причем единственный французский автор, которого он упоминает по имени, — это просветитель Вольтер (1694—1778), широко известный своими насмешками над христианской религией и мистикой: «Вольтеровы бонмо хочу собрать, да боюсь, не пресно ли нашим покажется. Какой теперь Вольтер; нынче дубина, а не Вольтер! Последние зубы друг другу повыбили!».
На фоне непонимания со стороны окружающих Иван Иваныч замечает, что с ним, действительно, происходит «что-то странное»: «И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так как будто кто подле: “Бобок, бобок, бобок!” Какой такой бобок? Надо развлечься». Подобным образом герой сказки Вильгельма Гауфа «Стинфольская пещера» (1828) рыбак Вильм Ястреб слышал подле себя загадочное слово «Кармилхан», которое связало его алчную душу с нечистой силой.
Герой Достоевского, жаждущий «развлечься», попадает на похороны дальнего родственника и устраивает сам себе своего рода экскурсию по кладбищу, заглядывая в разные могилки. Непонятно зачем он остается на кладбище после похорон родственника, садится на памятник и забывается. Но дальше у Достоевского, как обычно, граница между сном и явью сильно размывается. Литератор сперва сел, затем забылся, потом прилег и заснул, но, вдруг начав слышать «разные вещи» — «звуки глухие, как будто рты закрыты подушками», — он сразу же и «очнулся, присел и стал внимательно вслушиваться». Заканчивается же его «видение» вовсе не пробуждением (оно произошло сразу же, как только он начал слышать голоса), а тем, что он внезапно не удержался и чихнул: «Произошло внезапно и ненамеренно, но эффект вышел поразительный: всё смолкло, точно на кладбище, исчезло, как сон. Настала истинно могильная тишина». Иначе говоря, герой посещает кладбище, которое сравнивает (!) с «кладбищем»; очнувшись же после сна, наблюдает, как «просыпаются» мертвецы; а когда голоса покойников замолкают, то замечает, что видение исчезло «как сон».
Конструируемая рассказчиком двойная реальность в «Бобке» утверждается и за счет многочисленных каламбуров, характерных для творчества Достоевского в целом: «”Соли, говорят, у вас нет”. — Какой же тебе соли, — спрашиваю с насмешкою. — Аттической?»; «Но дух, дух. Не желал бы быть здешним духовным лицом»; «Вы объявили в червях, я вистую, и вдруг у вас семь в бубнах» — беседуют покойники в могилах; «Нельзя, ваше превосходительство, без гарантии никак нельзя. Надо непременно с болваном, и чтоб была одна темная сдача. — Ну, болвана здесь не достанешь»; «Ну, Боткин кусается» и т. п. По всей видимости, и слово «бобок», которое поначалу как бы нашептывал герою Ивану Иванычу еще до всякого посещения им кладбища кто-то невидимый, отличается амбивалентностью.
Что такое бобок, становится чуть более понятно из разговора мертвецов. «Льстивый» надворный советник Семен Евсеич Лебезятников витиевато объясняет «негодяю псевдовысшего света», барону Петру Петровичу Клиневичу, как получилось, что они вроде бы умерли, но при этом живы. «Скажите, во-первых (я еще со вчерашнего дня удивляюсь), каким это образом мы здесь говорим? Ведь мы умерли, а между тем говорим; как будто и движемся, а между тем и не говорим и не движемся? Что за фокусы?» — спрашивает Клиневич. На это он получает следующий ответ: «Это, если б вы пожелали, барон, мог бы вам лучше меня Платон Николаевич объяснить. <...> Платон Николаевич, наш доморощенный здешний философ, естественник и магистр. Он несколько философских книжек пустил, но вот три месяца и совсем засыпает, так что уже здесь его невозможно теперь раскачать. Раз в неделю бормочет по нескольку слов, не идущих к делу. <...> Он объясняет всё это самым простым фактом, именно тем, что наверху, когда еще мы жили, то считали ошибочно тамошнюю смерть за смерть. Тело здесь еще раз как будто оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это — не умею вам выразить — продолжается жизнь как бы по инерции. Всё сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается еще месяца два или три... иногда даже полгода... Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он всё еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно бессмысленное, про какой-то бобок: “Бобок, бобок”, — но и в нем, значит, жизнь всё еще теплится незаметною искрой...»
О ком это говорится? Кто тот, «который почти совсем разложился, но раз недель в шесть» вдруг бормочет «бессмысленное словцо бобок»? Не наш ли это гордый и сходящий с ума литератор, который перевел шесть книг с французского? Или же на кладбище, где он до этого не был двадцать пять лет, уже давно лежит некто, чье бормотание странным образом достигло его и ушей через значительное расстояние?
Что это вообще за сущности, которые одновременно и могут, и не могут говорить и двигаться? Выдающийся немецкий христианский мистик Карл фон Эккартсгаузен (1752—1803), особенно почитаемый русскими масонами конца XVIII — первой четверти XIX века, в своем труде «Ключ к таинствам натуры» так писал о подобном явлении: «Случается видать на кладбищах такие человеческие фигуры, составляющиеся из частей, по существу еще к телу принадлежащих, которые однако ж не Духи, и не Привидения. Они то, что Древние называли Тенями». Эккартсгаузен пояснял, что не тело и не наш облик делают нас людьми, а только разум и воля: «без разума же и воли человек только зверь, более или менее, смотря по тому, как воля и разум его направлены. Почему есть скоточеловеки и духочеловеки. Скотский человек тот, который водится волею без разума. Духовный тот, который водится волею по разуму». Примечательно, что герой Достоевского не столько видит происходящее, сколько слышит духовным слухом разговор теней, которые, очевидно, принадлежат к «скотолюдям» (по Эккартсгаузену), ибо они рассуждают исключительно о низменных и пошлых вещах, и больше всего мечтают о том, чтобы «обнажиться» и «ничего не стыдиться».
Покойники в рассказе отчаянно держатся за свои чины, пристрастия и пагубные привычки прошлой жизни, не желая с ними расставаться, что делает их положение трагикомичным: «Но далее началась такая катавасия, что я всего и не удержал в памяти, ибо очень многие разом проснулись: проснулся чиновник, из статских советников, и начал с генералом тотчас же и немедленно о проекте новой подкомиссии в министерстве — дел и о вероятном, сопряженном с подкомиссией, перемещении должностных лиц, чем весьма и весьма развлек генерала. Признаюсь, я и сам узнал много нового, так что подивился путям, которыми можно иногда узнавать в сей столице административные новости». Хотя они и понимают, что это теперь не навсегда.
«— И во-первых, господа, какой он здесь генерал? Это там он был генерал, а здесь пшик!
— Нет, не пшик... я и здесь...
— Здесь вы сгниете в гробу, и от вас останется шесть медных пуговиц.
— Браво, Клиневич, ха-ха-ха! — заревели голоса.
— Я служил государю моему... я имею шпагу...
— Шпагой вашей мышей колоть, и к тому же вы ее никогда не вынимали.
— Всё равно-с; я составлял часть целого.
— Мало ли какие есть части целого».
В романе «Бесы» один «седой бурбон капитан» восклицает: «Если Бога нет, то какой же я после того капитан?» В «Бобке» же герои по привычке сохраняют свои чины и после смерти, вне зависимости от своих отношений с Богом.
В подобной ситуации оказываются и мертвецы в «Разговорах в царстве мертвых» древнегреческого писателя Лукиана Самосатского (ок. 120 — после 180). В одном из них Диоген просит Полидевка, как только тот воскреснет и выйдет на землю, встретиться с Мениппом и пригласить его в загробный мир с тем условием, чтобы он захватил с собой чечевицы: «Скажи ему, что тебе, мол, Менипп, советует Диоген, ежели ты уже вдоволь посмеялся над делами земными, отправляться к нам: здесь можно найти еще больше поводов для смеха. На земле тебе мешали смеяться кое-какие сомнения, вроде постоянного: “Кто знает, что будет после смерти”. Здесь же ты беспрестанно и без всякого колебания будешь смеяться, как я вот смеюсь, в особенности когда увидишь богачей, сатрапов и тиранов такими приниженными, такими невзрачными, что их только по стонам и узнать можно, — до того они бессильны и жалки в своей тоске по всему, чтó оставили наверху, на земле. Прибавь еще, чтоб он, уходя, наполнил свой мешок чечевицей, и если найдет на перекрестке угощение Гекаты или яйцо от очистительной жертвы, и это захватил бы с собой». В другом диалоге умерший Менипп отчитывает своих сомертвецов: «Мало того, что прожили свою жизнь гадко, они еще и после смерти помнят о том, чтó было на земле, и крепко за это держатся. Оттого-то мне и доставляет удовольствие не давать им покоя».
М. М. Бахтин (1895—1975) в своем труде «Проблемы поэтики Достоевского» (1963) отмечал, что «”Бобок” по своей глубине и смелости — одна из величайших мениппей во всей мировой литературе», и что этот маленький рассказ Достоевского «является почти микрокосмом всего его творчества. Очень многие, и притом важнейшие, идеи, темы и образы его творчества — и предшествующего и последующего — появляются здесь в предельно острой и обнаженной форме». В числе источников, которые могли повлиять на формирование этого произведения, Бахтин особенно выделял сатиры Лукиана. Этот «”Вольтер древности” был широко известен в России начиная с XVIII века и вызывал многочисленные подражания». В одной из сатир «Разговоров в царстве мертвых» Лукиана мы также видим, как Менипп встречает мудреца Пифагора, который разъясняет, что для мертвых бобы уже не опасны, в отличие от живых:
«Пифагор. А покажи-ка, нет ли у тебя в мешке чего-нибудь поесть.
Менипп. Бобы, дорогой мой; тебе этого есть нельзя.
Пифагор. Давай! У мертвых учение другое; я здесь убедился, что бобы и головы предков совсем не одно и то же».
Итак, Пифагор, которому приписываются слова: «поедать бобы — значит есть головы предков (бобы, очевидно, имели отношение к культу умерших), у Лукиана сам ест бобы после смерти. Святой Климент Александрийский (ок. 150 — ок. 215), впрочем, полагал, что запрет на поедание бобов связан совсем с иными вещами: «Говорят, что пифагорейцы воздерживались от половых связей. Мне же кажется, что, напротив, они женились с тем, чтобы родить детей, действительно, воздерживаясь от сексуальных излишеств после этого. Именно поэтому они налагали мистический запрет на употребление в пищу бобов, а вовсе не потому, что бобы вызывают вздутие живота, рвоту и дурные сны, и вовсе не потому, что боб имеет форму человеческой головы, как в следующей строчке: Бобы потреблять все равно, что есть головы своих родителей (Orphica, fr. 291 Kern), — но по причине того, что потребление бобов приводит к женскому бесплодию».
Достоевский в «Бобке» вполне следует пифагорейской традиции: здесь есть и дурной сон, и сексуальные излишества («Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. <...> Проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!»), и «бесплодие», хотя и не физическое, а духовное. Поскольку видение предстает перед героем после его забытья, полезно справиться о том, как сны о бобах понимались в древних сонниках. Артемидор Далдианский (II в.) в своей «Онейрокритике» так истолковывал приснившиеся бобы: «Бобы молотые и натуральные означают ссору: одни, потому что молотые, а другие, потому что от них бывают дурные ветры; и не только поэтому, а еще и потому, что бобы отлучены от всего праздничного и священного». Ссора — это то, чем наполнены и беседы покойников в видении на кладбище (они постоянно оскорбляют и пытаются унизить, побольнее уколоть друг друга), и жизнь самого литератора-визионера Ивана Иваныча, бывшего не в ладах даже с семьей своего родственника, на похороны которого он пожаловал, но при этом не поехал из чувства обиды на литию (в данном случае — церковную службу об упокоении души недавно умершего).
Дурные ветры (иначе — нечистый дух), спровоцированные «бобком», проявляются в тексте рассказа Достоевского на разных уровнях. Сперва герой, блуждающий по кладбищу, восклицает: «Но дух, дух. Не желал бы быть здешним духовным лицом» (21, с. 43). Затем уже сами мертвецы выясняют, от кого из них исходит наиболее нестерпимый и тяжелый дух и кто сильнее остальных разложился. Наконец Лебезятников проясняет Клиневичу природу этой нестерпимой вони:
«— Довольно глупо. Ну а как же вот я не имею обоняния, а слышу вонь?
— Это... хе-хе... Ну уж тут наш философ пустился в туман. Он именно про обоняние заметил, что тут вонь слышится, так сказать, нравственная — хе-хе! Вонь будто бы души, чтобы в два-три этих месяца успеть спохватиться... и что это, так сказать, последнее милосердие... Только мне кажется, барон, всё это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении...
— Довольно, и далее, я уверен, всё вздор. Главное, два или три месяца жизни и в конце концов — бобок».
Итак, бобок — это финал разложения, когда потухает последняя искра жизни, и тени покидают «чистилище», превращенное ими в юдоль бесстыдства. В средневековом соннике Даниила (по Оксфордской рукописи ХV-ХVI веков) сообщается, что «Иметь дело с бобами — к расчетам». Мертвецы у Достоевского собственно этим и занимаются:
«— Так зачем вы сюда легли?
— Положили меня, положили супруга и малые детки, а не сам я возлег. Смерти таинство! И не лег бы я подле вас ни за что, ни за какое злато; а лежу по собственному капиталу, судя по цене-с. Ибо это мы всегда можем, чтобы за могилку нашу по третьему разряду внести.
— Накопил; людей обсчитывал?
— Чем вас обсчитаешь-то, коли с января почитай никакой вашей уплаты к нам не было. Счетец на вас в лавке имеется.
— Ну уж это глупо; здесь, по-моему, долги разыскивать очень глупо! Ступайте наверх. Спрашивайте у племянницы; она наследница.
— Да уж где теперь спрашивать и куда пойдешь. Оба достигли предела и пред судом Божиим во гресех равны».
Но главный «расчет» — это, конечно, не выяснение того, кто, кому и сколько должен денег, а предстание перед Высшим судом Творца. Недаром мертвецы называют свое пристанице «долиной Иосафатовой». На основании слов из книги пророка Иоиля: «Я [Господь] соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата и там произведу над ними суд» (Иоиль 3:2), иудеи, мусульмане и некоторые из христиан полагают, что долина Иосафатова будет местом последнего Страшного Суда над народами. В евангельском же смысле наказанию будут подвержены не столько обычные должники, сколько те из них, которые жестокосердно не прощали собственным должникам.
Хотя Достоевский просил не отождествлять себя с автором «Записок» о бобке, однако же рассказ наполнен деталями, которые присутствуют и в его великих романах: Семен Ардальонович, упрекающий писателя Иван Иваныча в пьянстве, отсылает к опустившемуся пьянице и сочинителю разных небылиц, генералу Ардалиону Иволгину из романа «Идиот». Чиновник Семен Евсеич Лебезятников, рассказывающий об идеях философа-естественника Платона Николаевича, напоминает о «служащем в министерстве» Андрее Семеновиче Лебезятникове, прогрессисте из «Преступления и наказания», который «снабжает» Соню «Физиологией» Льюиса и проповедует социалистические идеи общества будущего, устроенного на новых началах и отвергающего идею Бога за полной ненадобностью. «Симметрические бородавки» героя-литератора — деталь из записных книжек к «Бесам», связанная там с внешностью Петра Верховенского. Даже мимоходом брошенная фраза: «К. с ума сошел, значит, теперь мы умные», — может отсылать к спятившему князю К. из «Дядюшкиного сна» и т. д. Конечно, все эти мертвецы — лишь теневые порождения героев Достоевского, а не их копии или двойники. Но автобиографический след в этом рассказе несомненен. Даже главный герой назван тем же именем — Иван, — что и герой «Униженных и оскорбленных», писатель Иван Петрович, в образе которого Достоевский запечатлел ряд моментов своей писательской карьеры середины 1840-х годов (в журнальном варианте «Униженные и оскорбленные» имели подзаголовок «Из записок неудавшегося литератора»).
Считается также, что в «Бобке» Достоевский спародировал «эротический» роман П. Д. Боборыкина (1836—1921) «Жертва вечерняя» (1868), второе издание которого появилось в 1872 году. Комментаторы полного собрания сочинений Достоевского в 30 томах отмечали, что уже в начале 1870-х годов внимание писателя привлек один из псевдонимов Боборыкина — «Боб», переделанный В. П. Бурениным в «Пьера Бобо» (21, с. 404). Кроме того, рассказ «Бобок» содержал ответ и на опубликованную в газете «Голос» (1873, 14 января, №14) заметку Л.К. Панютина (1831—1882; псевдоним «Нил Адмирари»), в которой говорилось: «”Дневник писателя” <…> напоминает известные записки, оканчивающиеся восклицанием: “А все-таки у алжирского бея на носу шишка!”. Довольно взглянуть на портрет автора “Дневника писателя”, выставленный в настоящее время в Академии художеств (имеется в виду известный портрет работы В. Г. Перова. — Прим. ред.), чтобы почувствовать к г-ну Достоевскому ту самую “жалостливость”, над которою он так некстати глумится в своем журнале. Это портрет человека, истомленного тяжким недугом». Герой-литератор «Бобка» так отвечает на эту инвективу: «Я не обижаюсь, я человек робкий; но, однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности: “Все-таки ты, говорит, литератор”. Я дался, он и выставил. Читаю: “Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо”. Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати? В печати надо всё благородное; идеалов надо, а тут...». Заканчивается рассказ почти прямым упоминанием портрета Достоевского: «Снесу в “Гражданин”, там одного редактора портрет тоже выставили». Эти и ряд других занимательных подробностей самого внешнего, остропублицистического слоя «Бобка» тем не менее никак не определяют художественную значимость и не отменяют мистическую глубину этого сочинения, которое и по сей день многих неуравновешенных читателей вводит в полнейший ступор.
Поэт-символист Андрей Белый (1880—1934) также не верил словам Достоевского, что автор «Бобка» — другое лицо. Он называл этот рассказ «ужасным» и видел в нем «совершеннейший цинизм», «замерзшую гримасу истерики», «бесстыдство» и «свинство, в котором нет ни черточки художественности». По словам Белого, «если возможна кара за то, что автор выпускает в свет, то “Бобок”, один “Бобок”, можно противопоставить каторге Достоевского; да, Достоевский — каторжник, потому что он написал “Бобок”». Конечно, Белый был не прав в своей оценке, странным образом не поняв смысла «Бобка». Что же касается обвинений Достоевского в глумлении над всем святым, то нельзя не учитывать особенности его творческого метода, согласно которому на действительно глубокие вещи художник может выйти только тогда, когда не ставит сам себе никаких искусственных ограничений на познание человеческой души. Симптоматично, что эпитафия на могиле одного из мертвецов «Бобка», генерал-майора Первоедова — «Покойся, милый прах, до радостного утра!» — в точности повторяет реальную эпитафию, высеченную в 1837 году на могиле матери Ф. М. Достоевского, которую он очень любил.
Разговоры мертвецов в «Бобке» — очередное пронзительное напоминание современникам, полагающим, что никакой жизни после смерти не существует, о том, что и за гробом есть жизнь, но она полностью зависит от того, во что себя превратил человек при своем земном существовании. Как отмечал Достоевский в своей Записной книжке 1863—1864 годов: «Человек есть на земле существо только развивающееся, след<овательно>, не оконченное, а переходное». По убеждению писателя, «Всё зависит от того: принимается ли Христос за окончательный идеал на земле, то есть от веры христианской. Коли веришь во Христа, то веришь, что и жить будешь вовеки. Есть ли в таком случае будущая жизнь для всякого я? Говорят, человек разрушается и умирает весь. Мы уже потому знаем, что не весь, что человек, как физически рождающий сына, передает ему часть своей личности, … так и нравственно оставляет память свою людям (NB. Пожелание вечной памяти на панихидах знаменательно), то есть входит частию своей прежней, жившей на земле личности, в будущее развитие человечества. Мы наглядно видим, что память великих развивателей человека живет между людьми (равно как и злодеев развитие), и даже для человека величайшее счастье походить на них. Значит, часть этих натур входит и плотью, и одушевленно в других людей, Христос весь вошел в человечество, и человек стремится преобразиться в я Христа как в свой идеал».
В исследовательской литературе кладбищенское пространство «Бобка» не раз соотносили с чистилищем. Как отмечает А. П. Власкин: «Автор предпринимает художественный эксперимент: его персонажи получают возможность побывать после смерти в своеобразном “чистилище” и, быть может, трезво оценить прожитую “наверху” жизнь. Им предоставлена полная, но временная “свобода” — как от законов физиологии, так и от религиозных предначертаний. В результате же они используют эту возможность не для раскаяния и очищения от “земной грязи”, а напротив — для окончательного освобождения от каких бы то ни было нравственных норм». В самом слове «бобок», как полагает Власкин, «можно услышать звук пустеющего сосуда при сливе его содержимого. Из персонажей рассказа, из их души уходит содержание, изливается все, что накопилось за прожитую жизнь. И накопилась только грязь, а в конце звучит только бобок — никакого прекрасного, выстраданного, последнего человеческого Слова».
Сами же покойники называют свои разговоры «мытарствами»: «Матушка, Авдотья Игнатьевна, — возопил вдруг опять лавочник, — барынька ты моя, скажи ты мне, зла не помня, что ж я по мытарствам это хожу, али что иное деется?..»; «Ох-хо-хо! воистину душа по мытарствам ходит! — раздался было голос простолюдина, и...». Мытарствами в православной традиции называют препятствия (испытания) в загробной жизни, через которые проходит душа каждого только что умершего человека на пути к Богу. Наиболее известным рассказом о посмертных мытарствах является «Житие преподобного Василия Нового», описывающее видение его ученика, преподобного Григория, о мытарствах блаженной Феодоры. Это сочинение было хорошо известно еще в Древней Руси. Согласно этому удивительному свидетельству, существует до двадцати мытарств, из которых мертвецы «Бобка» умудряются провалить практически все: мытарство празднословия, мытарство лжи, мытарство осуждения и клеветы, мытарство зависти, мытарство воровства, мытарство гордости, мытарство гнева и ярости, мытарство блуда, мытарство немилосердия и жестокосердия и проч.
Особенного внимания в связи с «Бобком» заслуживает мытарство чародейства, обаяния, призывания бесов. Пробудившиеся покойники в ходе загробных бесед то и дело поминают чёрта, и, по сути, сами таким образом постепенно превращаются в чертей. Чёрта призывает повествователь-сновидец: «Впрочем, чёрт..., и что я с своим умом развозился: брюзжу, брюзжу»; о чёрте вспоминают, когда речь заходит о генерале Первоедове: «Гм, чёрт, в самом деле генерал!». Появляется он и в дальнейших разговорах живых мертвецов: «Впрочем, чёрт с ними, но только нас соберется своя кучка и у нас всё само собою устроится. <…> Чёрт возьми, ведь значит же что-нибудь могила!». Новоиспеченные «бесы» заняты, как и подобает голодным духам, пожиранием чувственных остатков друг друга и даже бравируют своей плотоядностью: «Признаюсь, удивился и я; впрочем, некоторые из проснувшихся были схоронены еще третьего дня, как, например, одна молоденькая очень девица, лет шестнадцати, но всё хихикавшая... мерзко и плотоядно хихикавшая»; «Какую?.. Какую Катишь? — плотоядно задрожал голос старца»; «Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Я прежде всех про себя расскажу. Я, знаете, из плотоядных. Всё это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!»
Современниками Достоевского «Бобок» был либо не понят, либо проигнорирован. Как отмечает А. В. Петрова, этот рассказ «представлял собой нечто контрастное статьям социальной тематики и переключал фокус читательского внимания с событий текущего момента на вопросы вневременного и вечного. Именно “Бобок” дал основание публицисту и критику В. П. Буренину (псевдоним «Z») причислить весь «Дневник писателя» 1873 г. к «мистицизму»…». На самом деле, «вневременного и вечного» Достоевский касался почти во всех текстах своей рубрики. К примеру, в предшествующей «Бобку» статье «Влас» он рассказывает о «мистическом ужасе, самой огромной силе над душой человеческой», замыслившей сделать невиданную дерзость (расстрелять из ружья собственное причастие). Хотя, конечно, в «Бобке» этот «мистический ужас» показан особенно колоритно, поскольку это не просто разговор с читателем, но художественное сочинение, напоминающее запись уникального духовного опыта сродни трактатам шведского ученого-духовидца Эммануила Сведенборга (1688—1772), которого Достоевский читал и высоко ценил.
Так в чем же заключается тайна «Бобка», которую обнаруживает незадачливый литератор на кладбище, похожем на кладбище? Писатель сам сделал все, чтобы эти «записки» о потусторонней жизни стали для одних подлинным духовным откровением, а для других — «мистическим бредом». Можно ли вообще сколь-либо доверять свидетельству героя, который, если верить упреку в его адрес со стороны Семена Ардальоновича, и трезв-то бывает не часто; которого к тому же называют «близким к помешательству лицом»; который, наконец, лег на кладбище и забылся, то есть попросту заснул, и что-то в этом состоянии прибредил. Не слишком ли много оснований допущено автором записок (а автор и главный герой здесь одно лицо!), чтобы его абсолютно точно не восприняли всерьез? Ведь для этого хватило бы любого из них. Но мы знаем, что у Достоевского нередко самые глубокие истины открывают самые слабые, падшие, смешные люди, стоящие на социальном дне и на грани или за гранью нравственного падения, упавшие в бездну преступления и греха. Все это, однако, совсем не повод, чтобы не воспринимать иные их откровения всерьез.
Достоевский знал, что поверить ему могут скорее те, кто уже верует в бессмертие души, поэтому и давно не пытался никого ни в чем убедить, но рассказывал иносказательно так, как это делает и Христос в Евангелии. Характерно, что притча о богаче и Лазаре так же завершается пониманием, что поверить могут только те, кто готов и хочет поверить. Попавший в ад богач просит Авраама рассказать через Лазаря, отнесенного ангелами на лоно Авраамово, своим живым родственникам о том, что ждет нечестивых и добродетельных в их посмертии, но получает на это жесткую отповедь: «Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но, если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк 16: 27–31).
Литератор Иван Иваныч в этом смысле прекрасно понимает, что узнать нечто подлинно глубокое можно лишь будучи открытым новому опыту, то есть сознавая свою недостаточную развитость, а подчас и глупость, слабость, неуспешность в иных вещах: «То-то, свести-то с ума у нас сведут, а умней-то еще никого не сделали. Всех умней, по-моему, тот, кто хоть раз в месяц самого себя дураком назовет, — способность ныне неслыханная! Прежде, по крайности, дурак хоть раз в год знал про себя, что он дурак, ну а теперь ни-ни. И до того замешали дела, что дурака от умного не отличишь. Это они нарочно сделали». Или: «Всему удивляться, конечно, глупо, а ничему не удивляться гораздо красивее и почему-то признано за хороший тон. Но вряд ли так в сущности. По-моему, ничему не удивляться гораздо глупее, чем всему удивляться. Да и кроме того: ничему не удивляться почти то же, что ничего и не уважать. Да глупый человек и не может уважать».
Самого Достоевского и до сих пор иные высокоинтеллектуальные умники вслед за нигилистами XIX века обвиняют в том, что он «плохой стилист», «профанирует высокое», «шокирует низким», «глумится над священным», погружается в такие бездны человеческой души, в которые бы лучше вообще не заглядывать для сохранения своего психического здоровья и нормальной жизни. Но Достоевский писал не про нормы, обеспечивающие самоуспокоение, а про жизнь вечную, к которой можно прийти, лишь преодолев себя в своих иллюзиях и заблуждениях (мнимых силе, уме, благополучии) и не соскользнув при этом в «разврат последних упований». Характерно, что почти никто из мертвецов в рассказе, которым вообще-то подарены «последние мгновения сознания» до полного разложения, даже и не подумал взмолиться Богу — Его место для них прочно занял Бобок.
