«Просвещение сделало нас теми, кто мы есть»
Из книги «1837 год. Скрытая трансформация России»
Все помнят «Философические письма» Петра Чаадаева, но мало вспоминают его более позднюю «Апологию». Как показывает историк Пол Верт, в этом документе философ пытается противостоять набиравшему силу антизападному повороту и вместе с тем указывает на то, что будущее России никак нельзя строить на утопиях прошлого.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Пол Верт. 1837 год. Скрытая трансформация России. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Перевод с английского Сергея Карпова. Содержание
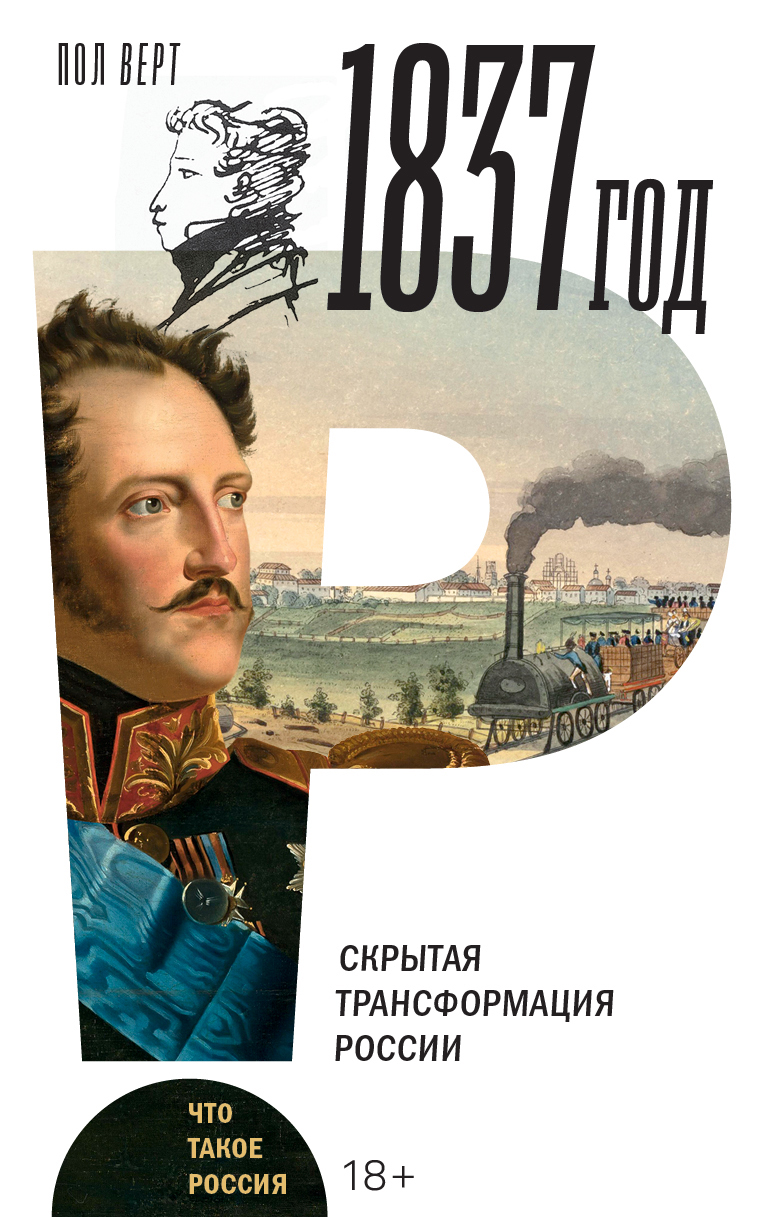
Как мы видели, после «Первого письма» Чаадаев обещал больше не публиковаться. Но не перестать писать. Возможно, он изменил обещание, данное полиции, с «ничего не писать» на «ничего не печатать». И еще до завершения кризиса снова взялся за перо и сочинил — опять же на французском — «Апологию сумасшедшего». Судя по всем признакам — в том числе по названию, — Чаадаев написал ее в начале 1837 года, когда еще находился под домашним арестом и врачебным наблюдением. Текст не окончен — вторая часть завершается сразу после слов о том, что ее темой будет география. Текст опубликован во Франции в 1862 году посмертно, но рукопись, как прежде «Письма», уже ходила среди читателей по рукам.
Как связаны между собой «Письмо» и «Апология»? По одной версии, взгляды Чаадаева с конца 1820-х до 1837-го значительно изменились, и «Апология» — это частичное отречение от предыдущей работы. В какой-то мере здесь не о чем спорить. За это время произошли знаменательные события, из которых самое важное — Июльская революция во Франции (1830), покончившая с верой Чаадаева в традиционную Европу, когда та пала перед растущей буржуазной волной (он постоянно находил все новые поводы для возмущения из-за «вулканического извержения всей накопленной Францией грязи»); а также восстание в Царстве Польском (1830-1831), которое Чаадаев назвал «безумным предприятием», угрожающим целостности России в ее западных границах (а это для России «жизненный вопрос»). Чаадаев одобрял «антипольскую поэму» Пушкина 1831 года «Клеветникам России» и называл ее «особенно замечательной». Отчасти с подачи Пушкина он заинтересовался Петром I, и это повлияло на его мнение о прошлом отечества (он не ожидал «найти его ни таким гигантом, ни столь расположенным» к нему, то есть близким ему по взглядам). Если смотреть с этой стороны, то скандал, по выражению польского историка русской философии Анджея Валицкого, «подтолкнул Чаадаева переосмыслить свои взгляды на Россию, чтобы оправдаться перед властями и — в меньшей степени — перед общественным мнением». По другому толкованию, «Апология» скорее пояснение к «Письму», а значит, она и не должна содержать фундаментально новую интеллектуальную ориентацию. Есть те, для кого оба текста — разные части единого мировоззрения, основанного на Гегеле (а не Шеллинге); одна часть касается Европы, другая — России. Другие же различают во всех работах мистический элемент, касающийся особой религиозной миссии России, так что кажущаяся разница между Чаадаевым конца 1820-х и Чаадаевым 1830-х — «прежде всего внешняя». Так или иначе, прямая связь текстов объясняет, почему Чаадаев стремился опубликовать «Письма» в 1836 году (иначе зачем издавать текст, содержащий твои устаревшие взгляды?). В этом толковании второй текст не извинение, а именно апология, то есть формальная защита своего мнения, а не признание своей неправоты.
Однозначно согласиться с той или иной стороной сложно из-за самого Чаадаева. Когда разразилась буря, он отрицал свою ответственность за публикацию и винил Надеждина («журналист, очевидно, воспользовался неопытностью автора») или обстоятельства («издателю „Телескопа“ попался как-то в руки перевод одного моего письма»). Но попытка отмежеваться от своего сочинения скорее говорит о нежелании признать вину тогда, когда у Чаадаева начались серьезные неприятности, чем о его реальной позиции в том же году, когда Надеждин предложил опубликовать цикл целиком. Не выдал Чаадаев и того, насколько изменилось его мировоззрение в первой половине 1830-х. В ноябрьском письме 1836 года С. Г. Строганову, главе московского цензурного комитета, он громко провозглашал: «Я далек от того, чтобы отрекаться от всех мыслей, изложенных в означенном сочинении; в нем есть такие, которые я готов подписать кровью». Но тут же признавал, что в статье «много таких вещей, которых бы я, конечно, не сказал теперь», а потом еще и прибавлял, что решился «сам возражать на свою статью, то есть рассматривать тот же вопрос с моей теперешней точки зрения». Остается неясным, насколько изменилось его отношение к собственному «Письму». Возможно, он не знал и сам. Своему брату Чаадаев писал в феврале 1837 года, что, «может быть», автор «Письма» изменился за шесть лет; «его образ мыслей, может быть, совершенно противоречит прежним его мнениям». Но — только «может быть». Определенно он говорить отказывался. Или нет?
Ничего не проясняет и сама «Апология» (чья незавершенность только запутывает дело). Кое-где Чаадаев заявляет, что общественность не поняла его первого выступления, — и стоит подчеркнуть, что речь идет только об одном из восьми «Писем», составляющих органичное целое. «Катастрофа», «бросившая на ветер труд целой жизни», являлась «результатом того зловещего крика, который раздался среди известной части общества». Чаадаев признавал, что его статья «язвительная, если угодно», что в ней есть «нетерпеливость» и «резкость» — и что, возможно, он переоценил достижения Запада. Но все-таки не извинялся за сам посыл и утверждал, что статья «заслуживала совсем другого приема, нежели тех воплей, какими ее встретили». И вовсе не враждебна к отечеству. Наоборот, сомнений в его патриотизме быть не может: «Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою родину, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа». Но вместо того чтобы любить родину «с закрытыми глазами, со склоненной головой, с запертыми устами», Чаадаев «любит отечество, как Петр Великий научил меня любить его». Потому, признавал он, в «Письме» имелись преувеличения: обвинение великого народа, чья единственная вина — жизнь на окраине цивилизованного мира; то, что автор не отдал должного восточной церкви; и отказ признавать «могучую натуру Петра Великого» «и грациозный гений Пушкина»; но при этом он заявлял, что «капризы нашей публики удивительны». Люди с радостью приняли пьесу Гоголя 1836 года «Ревизор», который «проволочил Россию в грязи», но возмутились из-за «Письма», которое читалось и перечитывалось сотни раз без всякой цензуры до публикации — «причем в оригинале, гораздо более резком, чем слабый перевод, который был напечатан». Можно задаться вопросом, правда ли переводы были «дурными» — Пушкин, например, их одобрял. Короче говоря, это вовсе не извинения, да и в том, чтобы самому назваться «сумасшедшим», чувствуется самоирония.
В то же время «Апология» написана в другом тоне и приходит к другим выводам, нежели «Письмо». Теперь Чаадаев утверждал, что исключение России из исторического процесса, который разворачивался на Западе, дает особую возможность определить собственную судьбу. И Петр I в прошлом веке блестяще показал, как это можно сделать. Он освободил Россию от «всех этих пережитков прошлого», мешавших развитию; он открыл «наш ум всем великим и прекрасным идеям, какие существуют среди людей; он передал нам Запад полностью, каким его сделали века». Именно потому, что Россия — «лист белой бумаги», то есть ее будущий путь не продиктован прошлым, Петр и написал на нем слова «Европа» и «Запад», определив культурную и цивилизационную принадлежность России. И нет никаких врожденных препятствий — сильных традиций или культурной памяти, — что помешали бы ассимиляции западных достижений: «Ничто не противится немедленному осуществлению всех благ, какие Провидение предназначает человечеству». «Прошлое уже нам не подвластно, но будущее зависит от нас». А значит, если прочитавший «Письмо» увидел только жалкое будущее России, он ошибся. «Я считаю наше положение счастливым, если только мы сумеем правильно оценить его». Положение России даже наделяет страну миссией:
Больше того: у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество.
Выходит, здесь в гораздо большей степени, чем в «Письме», ударение делалось на возможностях и перспективах, и пример Петра доказывает, что Россия не обречена оставаться в нынешнем состоянии, — наоборот, теперь она способна решать мировые проблемы.
Пожалуй, логичнее всего вслед за американским писателем Дейлом Питерсоном считать «Апологию» «приложением к первому письму», которое резюмирует главный исторический посыл всего цикла, взятого без цензуры. Это не значит, что «Апология» всего лишь синопсис семи неизданных писем. Как мы видели, мысль Чаадаева эволюционировала, а идеи текста, относящегося к 1837 году, различимы в его прочих письмах середины 1830-х. Так, когда Чаадаев писал в 1834 году Петру Вяземскому, настаивая на необходимости издать «Письма» в России, а не за границей, он, предвосхищая «Апологию», уже формулировал для России особую миссию:
Мы в какой-то степени представляем из себя суд присяжных, учрежденный для рассмотрения всех важнейших мировых проблем. Я убежден, что на нас лежит задача разрешить величайшие проблемы мысли и общества, ибо мы свободны от пагубного влияния суеверий и предрассудков, наполняющих умы европейцев.
Годом позже он говорил Александру Тургеневу: «Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе», — и даже «дать в свое время разгадку человеческой загадки». И все-таки кажется, что изменились не столько философские убеждения Чаадаева, сколько его выводы о месте России.
Отчасти причина в том, что менялся и интеллектуальный климат самой России. За годы после написания «Писем» была провозглашена триада Уварова, зародилось славянофильство — консервативная утопическая мысль, заявлявшая об уникальности России и порицавшая Петра I за европеизацию страны. Чадаев видел этот сдвиг — и его мировоззрение изменилось. В том же письме 1835 года Тургеневу он ссылается на «какой-то странный процесс в умах»: «вырабатывается какая-то национальность», которая, скорее всего, является «совершенно искусственным созданием», не имеющим основания в действительности. Когда народы братаются, когда стираются местные и географические различия, «мы обращаемся вновь на себя и возвращаемся к квасному патриотизму». В конце концов, предлагает Чаадаев,
мы должны искать обоснования для нашего будущего в высокой и глубокой оценке нашего настоящего положения перед лицом века, а не в некотором прошлом, которое является не чем иным, как небытием.
Подобные мысли объясняют, почему Чаадаев хотел издать «Первое письмо» в 1836 году, как только возникла возможность: хотя его взгляды уже изменились, оно противостояло той новой интеллектуальной тенденции, которую он считал «истинным бедствием».
Похожая тревога прочитывается и в «Апологии». Там Чаадаев отмечает существование «новой школы», что стремится уничтожить создание Петра I и «снова уйти в пустыню». Эти «фанатические славяне» предлагают «новоиспеченный патриотизм», «странные фантазии» и «ретроспективные утопии».
Вы понимаете теперь, откуда пришла буря, которая только что разразилась надо мной, и вы видите, что у нас совершается настоящий переворот в национальной мысли, страстная реакция против просвещения, против идей Запада, — против того просвещения и тех идей, которые сделали нас тем, что мы есть.
И говорил Чаадаев не об Уварове с его триадой: «На этот раз толчок исходит не сверху» — для этого Николай слишком любит Петра I, — а «всецело принадлежит стране» (то есть обществу). Здесь Чаадаев имеет в виду славянофильство, как раз в то время утверждавшееся на интеллектуальном ландшафте, и давал ему строго отрицательную оценку:
Кто серьезно любит свою родину, того не может не огорчать глубоко это отступничество наших наиболее передовых умов от всего, чему мы обязаны нашей славой, нашим величием.
В тот момент был важен не национальный эгоизм, ищущий вдохновение в затворническом прошлом, а понимание, что Провидение расположило Россию вне узких национальных интересов, доверив ей вопросы человечества в целом. Теперь главной задачей было не отвергать католицизм, а дополнить его общественный характер — стремление войти в мир и покорить общественную жизнь — той аскетичностью, которая сохранилось в православии. Следовательно, «Апология» не просто проясняла систему идей, описанную в «Письмах», но и формулировала для России новую задачу, которую Чаадаев — несколько парадоксально — противопоставлял набирающему популярность славянофильству и его миссии. То есть это и извинения, и апология одновременно.