Почему социализм победит
Фрагмент книги Кирилла Кобрина о начале современной России
Кирилл Кобрин. Разговор в комнатах. Карамзин, Чаадаев, Герцен и начало современной России. — М.: Новое литературное обозрение, 2018
В то самое время, когда Александр Герцен публиковал в журнале «Современник» «Письма из Avenue Marigny» и сочинял очерки, составившие потом книгу «С того берега», которая сделала ему имя у европейской публики, Чаадаев записал в своих тетрадях следующее: «Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его противники». Здесь автор одних писем, «Философических», символически протягивает руку автору других, сочиненных и присланных из Франции и Италии, представитель предыдущего поколения — представителю последующего. Чаадаев обозначает тему, так пока и не ставшую частью русской общественной повестки, она еще не актуальна для общественного мнения в России, ее пока не обсуждают, за исключением нескольких молодых — и не очень уже молодых — людей в московских и петербургских кружках. Эта тема пока почти чисто умозрительная для России, разрыв которой с Европой делается в конце 1840-х годов все больше и больше. В Европе — революция, в России — даже не реакция (внутри страны было не на что реагировать), а своего рода стоическая стагнация: власть отказывается от любых покушений на будущее, устанавливая, так сказать, «режим вечного настоящего». Если Европа являет собой картину бушующего моря, как в известном стихотворении Тютчева, то Россия — следуя тому же образу — вечный и неприступный утес. Геологический, физический состав утеса неизменен от века, и задумываться над его изменением есть безумная дерзость и даже преступление. Так это и расценивали те, кто по должности был обязан следить за умонастроениями в обществе и пресекать вольномыслие. Отсюда необъяснимая иначе изуверская жестокость преследований молодых людей, имевших смелость задуматься о том, что утес на самом деле не вечный и вообще не утес. История петрашевцев — тому страшное подтверждение.
В такой картине социализму места просто нет — как нет места и так называемому «социальному вопросу», тесно связанному с вопросом «экономическим». Равнодушие русского образованного общества к этим вещам, столь властно заявлявшим о себе в Европе, объясняется просто. Общественная дискуссия в России только начиналась; естественно, что главными ее темами были те, что считались дискуссантами самыми острыми для страны и самыми больными; прежде всего — вопрос об идентичности (условно назовем ее темой «Россия и Европа») и вопрос о крепостном праве, о «рабстве», как его называли самые крайние спорщики. Конечно, был в общественной повестке еще и сюжет об устройстве государства, о «самовластии», однако он по понятным причинам обсуждался мало — здесь использовались эвфемизмы и довольно прозрачные исторические аллегории, вроде отсылок к неким «восточным деспотам». Замечу здесь, что вообще условному «Востоку» в русской общественной дискуссии не повезло — он был начисто лишен истории, став своего рода «вечным объектом»; какой-нибудь Навуходоносор или Сарданапал соседствовали в рассуждениях о пагубном и преступном самовластии с нынешними турецкими султанами или даже с китайскими богдыханами. На «Востоке» — помимо условных романтических гурий, гаремов, кальянов и пещер с самоцветами — всегда были, точнее, всегда есть деспотизм и рабство. Россия после Петра (а то даже и до монголо-татар) — Европа, следовательно, деспотизма в ней быть не должно. На этом основании покоилось немало рассуждений, в том числе и таких, что смогли проскользнуть мимо придирчиво-усталого взора цензора. Знаменитый историк идей Эдвард Саид назвал бы подобный взгляд типичным проявлением «ориентализма» — всегда присутствовавшего на «Западе» концептуального подхода к «Востоку» как чему-то «вечному», лишенному «истории», а значит, лишенному «современности». Согласно Саиду, «ориентализм» предшествовал колониальной и торговой западной экспансии на Ближний и Средний Восток (а его последователи утверждают, что и дальше — в Индию, Китай и проч.), установив в европейском общественном сознании определенный образ «Востока»; когда же экспансия развернулась в полную силу, «ориентализм» сопровождал ее и активно создавал для нее условия, поставляя определенный тип знания о колонизируемых странах («востоковедение»), а также кадры для осуществления этой экспансии (обученные «востоковедению» чиновники, офицеры, ученые). В России — если продолжить ход рассуждения Саида — «ориентализм» тоже был, но он «заработал» несколько позже, в середине — второй половине XIX века, когда империя обратила свои взоры на Среднюю Азию и Дальний Восток. Однако нелишним было бы отметить, что до того, как созданные в Петербурге и Москве научные и образовательные институции занялись производством и воспроизводством официально востребованного ориентализма, подобное отношение к Востоку уже сложилось, но только в кругах, противостоящих российской власти. Впрочем, это особый сюжет, требующий специального рассмотрения.

Главные темы общественной повестки, в том виде, в котором она сложилась в конца 1840-х годов, были тесно связаны: проблема «особости» России в отношении Европы во многом определяла отношение к проблеме крепостного права и деспотической власти — и наоборот. Западники считали «рабство» и «самодержавие» позорными (а некоторые — и преступными) препонами на европейском пути России, начатом Петром Великим. Славянофилы, наоборот, считали и то и другое печальными последствиями отказа от русской самости. В этой замкнутой и довольно примитивной, даже клаустрофобичной схеме ни для чего иного места просто не было; все остальное, что действительно могло волновать общество, — вопросы этические, религиозные, устройства повседневной жизни — оставалось в ведении художественной литературы. Одна из причин «всеответности» русской словесности «золотого века» как раз в этом — она не только, как считают многие поколения историков и публицистов, стала идеальным пространством для завуалированного — в силу жесточайшей цензуры и отсутствия публичной политики в стране — политического высказывания; проза, поэзия и драматургия того времени заменяли почти отсутствовавшие социологию, политическую экономию и даже теологию. Делали они это по-разному, часто исходя из совершенно противоположных воззрений авторов, однако результат получился удивительным. Чтобы понять содержание французской или британской общественной повестки первой половины XIX века — да и, собственно, устройство хозяйственной и социальной жизни, не говоря уже о политической и церковной, — нужно читать Огюста Конта и Алексиса де Токвиля, Джона Стюарта Милля и кардинала Джона Ньюмана, Пьера Жозефа Прудона и Франсуа Рене де Шатобриана, Герберта Спенсера и Роберта Оуэна. В случае же России — это прежде всего проза Гоголя и Тургенева, стихи Вяземского, Пушкина, Лермонтова, Языкова, Шевырева, Хомякова, Тютчева, пьесы — от Кукольника до Сухово-Кобылина, Островского, Гоголя. Очень важна здесь и литературная критика, превратившаяся в те десятилетия в России из сублитературы в самостоятельную — и очень богатую содержанием — область общественно важной деятельности. Что касается «чистой» публицистики, то мы — помимо практически не попавших в печать текстов героя нашей предыдущей главы Чаадаева — и здесь встречаем Гоголя с его «Выбранными местами из переписки с друзьями». Понадобилось еще несколько десятилетий, чтобы русская словесность хотя бы на некоторое время освободилась от этой сверхзадачи: отвечать на все вопросы бытия, включая вполне конкретные политические, экономические, социальные и религиозные. Впрочем, до конца это так и не произошло, а новый — уже советский — деспотизм превратил большинство из сочинявшегося после условного 1925 года в своего рода «современную версию великой русской литературы золотого века». Любопытно, что подобное отношение разделяли в советский период и власть (чисто сталинистская соцреалистическая идея «красного Толстого»), и ее оппоненты (собственно, Солженицын и пытался стать новейшим «белым Толстым» — плюс Владимиром Далем в придачу).
 Николай Ге. Портрет Александра Герцена
Николай Ге. Портрет Александра ГерценаТак что «социальный вопрос», проклятая проблема социального неравенства — все это уже в 1830-х было прочно прописано по ведомству «изящной словесности», а не по департаменту «социально-политической мысли». Соответственно, социализм — как самая передовая и в каком-то смысле модная европейская идея того времени — в русской общественной дискуссии не появлялся сравнительно долго, несмотря на то что социалистов-утопистов читали молодые люди в московских кружках еще в 1830-х, а потом стали и в петербургских читать десятилетие спустя. Чтение это, впрочем, ни к чему не вело; я имею в виду — не вело к написанному на русском изложению русских воззрений на социализм и его применимость к российским условиям. Молодые люди чаще предпочитали обсуждать в своих писаниях Шеллинга и Гегеля, а не Сен-Симона или Ламенне. Чаадаев и здесь оказался одиночкой; о социализме прямо он почти не писал, но тему обозначил, сделав исключительно важное умозаключение по его поводу. «Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его противники».
Высказывание важное, так как в каком-то смысле указывает на будущее отношение русских не-социалистов к социализму — тех, конечно, кого можно весьма приблизительно определить как «прогрессивных деятелей», особенно последовательных демократов. Фраза Чаадаева состоит из трех пунктов — причем каждый последующий вытекает из предыдущего. Чаадаев начинает с гипотезы, выдаваемой им за аксиому: «социализм победит». Сложно представить себе «басманного философа» с его кругом воззрений (некоторые из которых подробно разобраны в предыдущей главе), который действительно хочет победы социализма. Хочет Чаадаев совсем другого — мировой теократии под властью католической церкви (или христианской церкви, объединившейся на условиях католицизма), победы универсального принципа Веры и Цивилизации, что, по его представлению, есть одно и то же. Социализму в этой системе места не предусмотрено — социальные вопросы сами собой разрешаются в правильно (согласно чаадаевской идее) устроенном обществе. Однако то, что Чаадаев наблюдает начиная с 1830 года, говорит об отдалении мира (Европы) от его идеала, не говоря уже о России. В сущности, мир священного Средневековья, когда в Европе господствовала универсальная единая церковь во главе с папой, становится столь же враждебным сегодняшней секуляризирующейся — и, главное, одержимой национальным партикуляризмом — Европе, как и «внеисторической» России. Раз так, пусть случится нечто, что неизбежно и радикально изменит Европу. Перебирая варианты, идеи, идеологии, которые могли бы подобное совершить, Чаадаев останавливается на социализме. Раз не победит универсальный принцип веры в Христа и устроенного на этой вере общества, победит социализм — ведь он тоже исходит из универсального принципа, пусть и вульгарного, где вместо Бога — социальная справедливость. Все равно всеобщее восторжествует над отдельным, фрагментарным — так считает Чаадаев.
Оттого социализм хоть и не прав — ибо он не про веру, а про социальное равенство, не про небесное, а про профанное — но победит. А те, кто против него, наверняка проиграют, будут повержены. Отчего? По двум причинам. Во-первых, потому что они стоят против принципа всеобщности, который и есть главный принцип Европы, а значит, и главный принцип истории — ведь для Чаадаева «Европа» равняется «истории» (а «история» была только у Европы). Во-вторых, и тут мы вплотную подходим к теме этой главы нашей книги, не правы те, кто не замечает (или делает вид, что не замечает) «социального вопроса» — вопроса социального неравенства и социальной несправедливости. Соответственно, эти люди обречены — ибо если уж не создавать Всеобщую Теократию, то стоит стремиться к Всеобщему Равенству. По крайней мере, для Христа все равны, как известно, — пусть лишь этот элемент его учения восторжествует, но все-таки его учения, а не какого-то иного.
Любопытно, что «социальный вопрос» до Герцена в, так сказать, «чистом виде» в России практически не существовал. Даже тогда, когда он поднимался — чаще всего в беллетристике, поэзии или драматургии, — он был связан с апелляциями либо к христианству, либо к моральной проблематике, которая рано или поздно все равно вела к тому же христианству. Мы все люди, у нас у всех есть душа от Бога, так отчего одни угнетают других? Собственно, на эту связь Чаадаев и указывает — тем более что он внимательно изучал труды так называемых «христианских социалистов», чьи концепции зиждились на вышеописанном нехитром принципе. Именно в таком виде он как бы бросает эту мысль следующему поколению общественных мыслителей, надеясь, что они ее разовьют. Они развили, но — часть из них — в совершенно ином духе, без апелляций к «душе» и «Богу» вообще. Первым из них был Герцен.
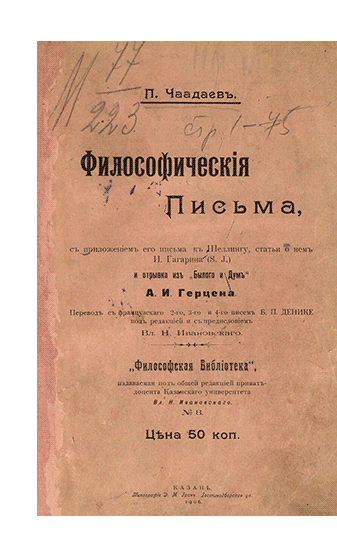 Как мы уже говорили, Герцен был знаком с Чаадаевым и пишет о нем как в книге «О развитии революционных идей в России», так и в других своих вещах. Вообще, Герцен относился к автору «Философических писем» с уважением, переходящим в восторг; однако восхищался он скорее Чаадаевым как примером, Чаадаевым, сделавшим одинокий героический публичный жест, нежели чаадаевскими идеями. Наконец, он в восторге от Чаадаева — критика России и российских порядков. Как и в случае Прудона, Герцену критика была важнее позитивной программы; только он, кажется, не понял, что у Чаадаева это была не критика русских порядков и русской истории, а констатация действительного (с точки зрения автора) положения дел. В книге о развитии революционных идей в России, сочиненной для европейской публики на французском и впервые изданной на немецком, Герцен пытается придать чаадаевскому «Философическому письму» вид анализа и вынесенного на основании анализа диагноза (пусть и неправильного), а не просто акта несогласия с существующим положением дел, однако быстро забывается: «Заключение, к которому приходит Чаадаев, не выдерживает никакой критики, и не тем важно это письмо; свое значение оно сохраняет благодаря лиризму сурового негодования, которое потрясает душу и надолго оставляет ее под тяжелым впечатлением. <...> Статья эта была встречена воплем скорби и изумления; она испугала, она глубоко задела даже тех, кто разделял симпатии Чаадаева, и все же она лишь выразила то, что смутно волновало душу каждого из нас. Кто из нас не испытывал минут, когда мы, полные гнева, ненавидели эту страну, которая на все благородные порывы человека отвечает лишь мучениями, которая спешит нас разбудить лишь затем, чтобы подвергнуть пытке? Кто из нас не хотел вырваться навсегда из этой тюрьмы, занимающей четвертую часть земного шара, из этой чудовищной империи, в которой всякий полицейский надзиратель — царь, а царь — коронованный полицейский надзиратель? Кто из нас не предавался всевозможным страстям, чтобы забыть этот морозный, ледяной ад, чтобы хоть на несколько минут опьяниться и рассеяться?» Написано красиво, но совсем не о том, о чем на самом деле говорит Чаадаев.
Как мы уже говорили, Герцен был знаком с Чаадаевым и пишет о нем как в книге «О развитии революционных идей в России», так и в других своих вещах. Вообще, Герцен относился к автору «Философических писем» с уважением, переходящим в восторг; однако восхищался он скорее Чаадаевым как примером, Чаадаевым, сделавшим одинокий героический публичный жест, нежели чаадаевскими идеями. Наконец, он в восторге от Чаадаева — критика России и российских порядков. Как и в случае Прудона, Герцену критика была важнее позитивной программы; только он, кажется, не понял, что у Чаадаева это была не критика русских порядков и русской истории, а констатация действительного (с точки зрения автора) положения дел. В книге о развитии революционных идей в России, сочиненной для европейской публики на французском и впервые изданной на немецком, Герцен пытается придать чаадаевскому «Философическому письму» вид анализа и вынесенного на основании анализа диагноза (пусть и неправильного), а не просто акта несогласия с существующим положением дел, однако быстро забывается: «Заключение, к которому приходит Чаадаев, не выдерживает никакой критики, и не тем важно это письмо; свое значение оно сохраняет благодаря лиризму сурового негодования, которое потрясает душу и надолго оставляет ее под тяжелым впечатлением. <...> Статья эта была встречена воплем скорби и изумления; она испугала, она глубоко задела даже тех, кто разделял симпатии Чаадаева, и все же она лишь выразила то, что смутно волновало душу каждого из нас. Кто из нас не испытывал минут, когда мы, полные гнева, ненавидели эту страну, которая на все благородные порывы человека отвечает лишь мучениями, которая спешит нас разбудить лишь затем, чтобы подвергнуть пытке? Кто из нас не хотел вырваться навсегда из этой тюрьмы, занимающей четвертую часть земного шара, из этой чудовищной империи, в которой всякий полицейский надзиратель — царь, а царь — коронованный полицейский надзиратель? Кто из нас не предавался всевозможным страстям, чтобы забыть этот морозный, ледяной ад, чтобы хоть на несколько минут опьяниться и рассеяться?» Написано красиво, но совсем не о том, о чем на самом деле говорит Чаадаев.
Самое удивительное, что трактовка «Философического письма» как «лирического негодования», вопля, а не пролегоменов к чаадаевской философии истории, даже теологии истории восходит, как мы уже говорили, к гонителям «басманного философа», к Вигелю, Бенкендорфу, Николаю I. Герцен, введенный реакцией власти на «телескоповскую» публикацию в заблуждение, повторяет за ней — столь ему ненавистной — банальности, не желая вдуматься в действительные интенции автора «Письма». Собственно, он обогатил русскую общественную повестку двумя ставшими потом крайне популярными подходами, даже (да простит меня читатель за оценочную интонацию) трюками. Первый — строить собственные рассуждения о самых разных предметах, основываясь на том, что сказала о них «власть». Это способ своего рода капитуляции, передачи инициативы другой стороне, оставления за собой сомнительной роскоши реагировать на действия визави, что, безусловно, удобнее и приятнее, нежели, рискуя, предлагать нечто свое. Так уже в самом начале русской публичной общественной дискуссии в нее был заложен элемент, ведущий к ее деградации, к подмене «обсуждения» и «разговора» набором реакций, скорее эмоциональных, нежели рациональных. Крайний случай этого мы видим в России сегодня, когда недовольные нынешним режимом довольствуются критическим комментарием к тому, что говорит и предпринимает власть, не будучи в состоянии предложить нечто свое, новое, важное для всего российского общества, а не только комфортное для себя самих. Вторая черта русской общественной дискуссии и общественного мнения, которая ведет свое происхождение от Герцена, — это создание своего рода «экспортного варианта» самих себя для западного потребителя. Придать себе больше драматизма, даже трагизма, говорить от имени якобы существующего «мы» — как Герцен в цитированном отрывке пишет о «нас», «испытывающих гнев» и мечтающих «вырваться навсегда из этой тюрьмы», — наконец, представить сложные процессы, происходящие в общественном мнении России, как исключительно простые, как борьбу Абсолютного Добра («мыслящие люди») с Абсолютным Злом («деспотическая власть»). Эта черта также оказалась весьма живучей, и ее проявления можно обнаружить до сего дня. Результат получился двойственный — и по обоим направлениям печальный. Подобного рода упрощения, необходимые для формирования «образа для внешнего использования», вводят в заблуждение прежде всего тех, кто этот образ формирует. Они сами начинают верить в него, и рассуждать, и думать в этих категориях. Конечно, реципиент также оказывается дезориентирован — в его сознании возникает образ проклятой и прекрасной страны, трагически навсегда разделенной между Злом Торжествующей Власти и Добром Страдающего Общества. Из чего делается вывод, что достаточно каким-то образом убрать первый элемент системы, и второй восторжествует. Как мы знаем, дело обстоит совсем не так.
К сожалению, мы увлеклись здесь чисто герценовской актуализацией того, что и как думали люди 150 с лишним лет назад, и ушли от нашей темы. А тема в этой части главы — социализм, понятие, которое Герцен ввел в язык русской общественной дискуссии, тема, ставшая важной частью русской общественно-политической (именно такой, а не «художественной» или «этической») повестки. И в этом его гигантская заслуга. Попробуем же проследить, как и почему это получилось.