Почему реставрация — это не возрождение, а присвоение утраченного прошлого
Отрывок из книги Ирины Сандомирской «Past discontinuous: фрагменты реставрации»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Ирина Сандомирская. Past discontinuous: фрагменты реставрации. М.: Новое литературное обозрение, 2022. Содержание
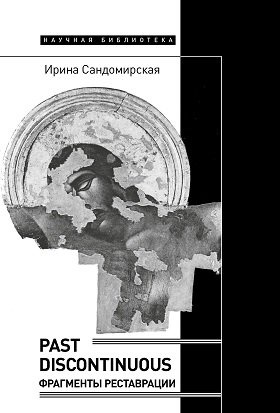 Риторика реставрации основана на метафорах возвращения, возрождения, восстановления утраченного прошлого, воплощенного в материальности конкретных предметов. При этом реставрация возвращает прошлое не сплошь, но выборочно, посвящая свои усилия сингулярным объектам и экстраординарным моментам прошлого — знакам исторически поворотных пунктов и великим шедеврам, вечным ценностям, но облеченным в тленную материальную оболочку, временность которой входит в конфликт с их непреходящим значением. Под такими модернистскими знаменами развивалась реставрация по крайней мере до совсем недавнего времени, пока не наступили времена все возрастающей демократизации, глобализации и релятивизации ценностей. Однако благодаря тому, как реставрация уникальным образом сочетает в себе заботу о символической ценности с необходимостью по возможности беречь и сохранять вещь в ее материальной аутентичности, она остается комплексом дискурсов и практик, которые сопротивляются полному размыванию вещей в их субстанциональности и их превращению в коммуникативные жетоны, в знаки для обмена нарративами, эмоциями и поддержания отношений.
Риторика реставрации основана на метафорах возвращения, возрождения, восстановления утраченного прошлого, воплощенного в материальности конкретных предметов. При этом реставрация возвращает прошлое не сплошь, но выборочно, посвящая свои усилия сингулярным объектам и экстраординарным моментам прошлого — знакам исторически поворотных пунктов и великим шедеврам, вечным ценностям, но облеченным в тленную материальную оболочку, временность которой входит в конфликт с их непреходящим значением. Под такими модернистскими знаменами развивалась реставрация по крайней мере до совсем недавнего времени, пока не наступили времена все возрастающей демократизации, глобализации и релятивизации ценностей. Однако благодаря тому, как реставрация уникальным образом сочетает в себе заботу о символической ценности с необходимостью по возможности беречь и сохранять вещь в ее материальной аутентичности, она остается комплексом дискурсов и практик, которые сопротивляются полному размыванию вещей в их субстанциональности и их превращению в коммуникативные жетоны, в знаки для обмена нарративами, эмоциями и поддержания отношений.
Реставрация ориентируется в мире ценностей и манипулирует ценностями: она возвращает нам прошлое в форме сокровищ, которые иногда ценны настолько, что не имеют цены. Такие бесценные ценности невозможно ни продать, ни купить; это дары человеческого гения, их время — вечность. Хотя реставрация риторически выступает на стороне антимодернизации, в реальности она оказывается двигателем обновления и прогресса, все время улучшая и укрепляя прошлое, исправляя предшествующие искажения и заблуждения, сохраняя его, прошлого, идею, идеал, замысел и т. д. для настоящего и будущего. При этом реставрация всегда имеет дело с конкретной вещью, всегда погружена в материал и в этом радикально противоположна как спекуляциям исторического сознания, так и туманностям ностальгической памяти. Реставрация предельно конкретна, она занимается прошлым в физическом, химическом, биологическом и прочем составе старых вещей, в их материальном и социальном бытии, исследуя оставленные на них следы времени, останавливая процесс их распада, поддерживая их для продолжения жизни. Обращая взор назад во времени, реставрация как будто оказывает предпочтение ценностям прошлого перед преходящими ценностями современности, однако при этом по своей философии она составляет прямую противоположность реакционному созерцанию руин. Тогда как руины являют нам победу времени над человеческими замыслами и природы — над культурой, реставрация знаменует собой торжество человека над силами распада; триумф чувства, вкуса, компетенции и мастерства в искусстве поворачивать время вспять, останавливать или замедлять неизбежное наступление конца времен. В этом смысле реставрация представляет собой квинтэссенцию исторического воображения модерности: это воплощенное в техниках и знаниях отношение к прошлому доктора Фаустуса, «история в мастерской»; знание прошлого, заключенное в умении, сосредоточенном в кончиках пальцев мастера.
И действительно, лежащая перед реставратором руина — овеществленное Время в форме осыпающегося живописного полотна, разбитого мраморного торса, развалин древнего храма, куска полусгнившей ткани и т. п. — таит в себе прошлое в самых разных потенциальных воплощениях. Так, прошлое существует в руине, например, как потенциальный взгляд: силой воображения при созерцании руины утраты компенсируются, и утраченное прошлое возвращается в своей гипотетической целостности как материализация оптической иллюзии. Или оно потенциально присутствует в руине как след жеста, когда реставратор исследует технику производства того или иного артефакта — например, так называемую руку художника — и планирует оптимальные способы воссоздания утраченного или укрепления еще не разрушенного. Прошлое потенциально актуализируется в вещи в ощущении ее материала, в прикосновении руки, в запахе и цвете, в химическом и физическом составе, который анализируется рентгеном, фотографией, датчиками самых разных инструментов. Прошлое как ощущение дается также и в переживании зрителя, в ощущениях ауры и патины, которые не поддаются формализации, но представляют собой антропологическую реальность физического и практического контакта с вещью; кураторы ищут такого рода иммерсивность в противоположность дискурсивности, ожидая, что организованный в экспозиции контакт с вещами даст новый уровень убедительности воздействием на аффект. Прошлое как взгляд, как жест, как ощущение, как аффект и, наконец, как вещь в ее «сделанности» — все такое прошлое существует на пересечении знания, практики и желания. Способы потенциального освоения прошедшего времени выходят за рамки исторической дискурсивности и вовлекают нас в антропологическую реальность исторического опыта, в политическую и экономическую жизнь ценностей, коммуникаций и обменов.
Хотя историки наследия и историки реставрации относят ее начало к Возрождению и ранней модерности (идее Возрождения как возврата античности отвечает и идея реставрации как возрождения), сама практика сопровождала европейскую культуру и в глубокой древности, столь же давно, сколько существует почитание священных реликвий и коллекционирование художественных вещей, древностей и редкостей; коллекционирование же, в свою очередь, существует столько, сколько в обществах существуют элиты, которые используют такого рода ценности в качестве символов своей власти. Известны великие художественные коллекции, заботой о которых занимались великие люди, такие как Рафаэль, который был хранителем коллекций древностей в Ватикане. Выход реставрации из мастерской и ее вхождение в публичную сферу связывают с серединой XVIII века, когда оказалось, что сама практика реставрации, например восстановление старинного художественного полотна, имеет эстетические, исторические и политические коннотации, принципиальные для века Просвещения; что процесс реставрации может представлять собой публичное зрелище, а ее результат — предмет оживленных дебатов в формирующейся публичной сфере; что манипуляции и экспертиза в мастерской реставратора — художника и знатока — повышает ценность полотна и отвечает развивающемуся рынку. Уже с самого начала своей общественной жизни реставрация оказывается в перекрестье антагонистических мнений. Энциклопедист Дидро — посетитель и критик парижских Салонов — видит в реставрации фальсификацию и манипуляцию; зато несколькими десятилетиями позже Гёте, путешествуя по Италии, посещает мастерскую реставратора и восхищается ею как практической метафизикой: способностью реставратора вскрыть и сделать видимым невидимую истину старой живописи, ее исчезнувшую под действием времени подлинную суть.
Еще не превратившись в профессиональную музейную дисциплину, реставрация второй половины XVIII века уже была явлением общественной сферы, представляя собой сочетание знаточеской компетенции, технического мастерства, вкуса и экономического интереса, которое полностью переопределило отношение к прошлому. Кроме того, уже тогда реставрация в этих своих разнообразных ипостасях показывала себя и в качестве назидательного общественного зрелища на популярных выставках реставрированных произведений искусства; ушедшее время как бы обретало способность возвращаться благодаря искусству и умению мастера и знатока, и при этом возвращаться с повышенной ценностью, как нечто в высшем смысле нетленное и бессмертное. В результате Французской революции в контексте развития системы публичных музеев реставрация — частное ремесло для обслуживания частного коллекционера — становится частью общественного института. Здесь собираются и экспонируются трофеи революционных реквизиций и наполеоновских завоеваний; здесь результатами музейной реставрации любуется широкая публика, их обсуждают в своих заметках иностранцы-путешественники.
В наше время этот третий по отношению к истории и памяти дискурс прошлого в западной и международной традиции называется консервацией. В русской традиции по-прежнему говорят о «реставрации», а когда хотят отличить ее от коммерческой или самодеятельной, говорят о научной, музейной реставрации или реставрации-консервации. Представляясь нам практически одним и тем же, в реальности реставрация и консервация в принципиальных отношениях антонимичны, если не антагонистичны друг другу. Здесь интересные различия, связанные и с историей, и с политикой, но и с собственной идеологией, с системой ценностей и целей, которыми консервация и реставрация (в русском-советском смысле) отличаются друг от друга. Сознательно ли в силу идеологических мотивов «непреклонения перед Западом» или неосознанно, в силу дисциплинарной и отраслевой традиции, советские реставраторы всегда называли себя реставраторами, а не консерваторами, и только в 90-е годы, когда появился открытый рынок артефактов прошлого, а вместе с ним частная собственность на движимость и недвижимость, образовалась и коммерческая реставрация; когда у научной реставрации советского извода появилась необходимость отделить себя от рыночной самодеятельности, она стала называть себя через дефис — «реставрацией-консервацией».
Консервация исторически всегда основывалась на критериях исторической истинности вещей и интерпретировала вещь как документ. Реставрация — в том числе и «советская школа реставрации», о которой пойдет речь дальше, — традиционно апеллировала к эстетической, художественной ценности. Причины этой склонности к художественности заключаются в истории самой отечественной реставрации, которая зародилась в среде художников, коллекционеров и критиков Серебряного века, в конкуренции с университетской и музейной научной археологией; появившись в этом салонном и журнально-выставочном ландшафте, она сохранила в себе модернистскую эстетику и после революции. Другая причина — опасное положение истории, историков и отрицание исторического прошлого вообще при большевистском и затем сталинском режиме. В хаосе и терроре первых лет революционного режима апелляция к красоте произведения искусства стала аргументом, который мог защитить от уничтожения вещь с опасным историческим прошлым. Это не означает, что русская реставрация в начале века и после 1917 года не занималась ни исторической, ни археологической атрибуцией. Охрана памятников стала делом государственным уже в 1918 году, а защита и сохранение исторического наследия — принципиальной задачей реставраторов в их повседневной работе, зачастую смертельно опасной, особенно в 1930–1950-е годы, как о том свидетельствуют героические и трагические биографии едва ли не каждого представителя первого советского поколения.
Реставрация-консервация, как ее описывает Ю. Г. Бобров, примиряя историю с эстетикой через дефис, ищет баланс между историческим и эстетическим. Однако на исходе перестройки были очевидны, наоборот, противоречия. Интересен диалог, который состоялся, когда советский режим историчности уже умер, но никакой новый пока еще не пришел ему на смену, между молодым Бобровым и его коллегой, востоковедом, историком русского искусства и теоретиком реставрации Леонидом Лелековым. Здесь позиции были заявлены безо всяких дефисов. В сборнике, выпущенном в 1990 году, то есть на вершине исторической гласности и на закате советской системы реставрации, антагонизм между историческим и эстетическим был обозначен очень четко — как конфликт между исторической истиной и авторитетом документа (позиция консервации, представленная Лелековым) и предпочтениями эстетического восприятия сегодняшним зрителем, авторитетом произведения высокого искусства (позиция реставрации, Бобров).
Спор этот был профессиональный и этический, если не политический, и уходил глубоко в идеологические противоречия советской интеллигенции. В духе еще не угасшей горбачевской гласности Лелеков представлял консервацию от лица исторической истины, которая систематически извращалась и марксистско-ленинской историей, и пропагандой; эстетическая концепция Боброва, опиравшаяся на феноменологию восприятия, оказывалась в глазах максималиста Лелекова всего лишь еще одной инстанцией фальсификации, а его апелляция к художественной ценности — отрицанием исторической правды, воплощенной в артефакте как документе. Исходя из «эстетики рецепции», незачем считаться с автором, его замыслом и окончательным исполнением. Как и с преодоленным историческим временем... [С]амая блистательная реставрация ничего не возрождает и не возвращает. Что возвращается? Она создает подобия. В том числе подобия эстетических переживаний, идеалов, устремлений автора. Если реставрация и создает красоту из ничего, то новую. [Лелеков Л. А. Об эстетических критериях в реставрации]
Бобров, выступая на стороне реставрации, утверждал приоритет эстетического качества над археологическими данными и полагал «соображения идеологического порядка, интересы современной культуры» приоритетными по отношению к «интересам памятника». Реставрация является «действием, с помощью которого реализуется преемственность в культуре». Как объект консервации вещь ограничена «интересами памятника»; как объект реставрации и «памятник искусства» вещь становится объектом «не только вещно-физического, но и более сложного, культурно-ценностного порядка».
«Историческая истина» или «художественная правда»? Wahrheit или Dichtung? В контексте гласности такие «разборки» происходили повсеместно и имели глубочайшие идеологические и политические предпосылки, на которых расходились пути советской интеллигенции. Но даже если в советском контексте этот разлом имел свои особенные, уходящие в толщу советской исторической памяти корни, то наметился он как таковой гораздо раньше, на заре модерности, обозначился институционально в годы Великой французской революции, Термидора и последовавшей реставрации империи, когда одновременно вызревали три кита XIX века: индустриальный и товарный капитализм, модернизм в искусстве и историзм в академии. Тогда же, как уже упоминалось, возникает и движение (архитектурной) консервации и реставрации в Европе, в котором быстро намечается поляризация. На одном полюсе возникает принцип целостной реставрации и идеи восстановления руины в первоначальном состоянии ради цельности эстетического восприятия; этот принцип исторически связывают с реставрациями Виолле-ле-Дюка. На другом полюсе возникает движение антиреставрации, которое связывают с именем Джона Рёскина; здесь «первоначальным состоянием» считали саму руину, какой ее обнаруживал современник XIX века, а носителем исторической ценности — не утраченный и восстановленный в работе воображения целостный облик, но материальность сохранившихся от старины фрагментов.
В дальнейшем эта оппозиция исторического и эстетического воспроизводилась в разных идеологических формах, например в том, как на переломе XX века археологи и историки искусства спорили о том, что такое исторический или художественный памятник: определять ли его историческую ценность исходя из свойств материала археологической находки или из признаков эпохи, стиля, направления, которые различаются в его формах. В практической реальности, однако, проекты восстановления, особенно дорогостоящей архитектурной консервации, руководствовались не только этими двумя, но еще и экономическими соображениями, которые, в свою очередь, вступали в противоречие с критериями антикварной или археологической ценности самого артефакта. Как уже упоминалось, в выставочных и кураторских практиках последнего времени, а также в теории музейного дела обсуждают оппозицию «дискурсивности», то есть знания и толкования, и «иммерсивности», то есть такой организации выставочной среды, в которой смысл создавался бы не в результате усвоения зрителем нарраций и хронологий, а в результате переживания определенных аффектов от непосредственного контакта с вещами. В социологической теории «обогащения» ценности материального наследия историческими нарративами также прослеживается та же дилемма «историческое, или археологически данное, vs. прекрасное». Ниже, в главе 1, я хочу более подробно обсудить эту двойственность вещей, их двойную телесность — собственно вещную, данную в конкретной практике, и дискурсивную, закрепленную в словах, цифрах, образах и пр. Именно эта двойная телесность в природе самих вещей и их бытования в социальном пространстве порождает и поддерживает во времени ту поляризацию между (исторической) истиной и (художественной) правдой, которую я лишь мельком затронула выше.
С точки зрения реставрационной практики это спор довольно отвлеченный. Как не бывает реставрации без консервирующего вмешательства — без укрепления структуры или «консервирующей хирургии», то есть удаления вредных воздействий и необратимых повреждений, так не бывает и проектов консервации, вполне свободных от необходимости реставрировать руину. Как можно заключить из дискуссии между Бобровым и Лелековым, разница здесь не в технике, а в идеологии. Историк Майлс Глендиннинг, автор замечательной книги об охране памятников и истории движения архитектурной консервации, указывает на три руководящие идеи, которыми это движение исторически объединялось на протяжении всей истории своего существования в Новое время и которые не меняли своего основополагающего значения до нашего времени, возникнув в зоне действия могучих исторических сил, охвативших Европу в XVIII веке и перешедших в новое качество в 1789 году. Это, во-первых, гранд-нарративы социального прогресса, Просвещения, национальной идентичности и исторического предназначения; во-вторых, дискурсы и риторики аутентичности; в-третьих, модернистское противопоставление старого как оппозиции новому и подлинника в противоположность копии и подделке.
По двум последним ключевым пунктам — о том, что считать старым, что считать новым, и о том, что есть оригинал, а что копия; что есть подлинник, а что фальшивка, — реставрация выступает антагонистом консервации в плане материальной реальности и практики, хотя обе принадлежат к области антимодернизационных риторик и идеологий. Случай отца исторической архитектурной реставрации, знаменитого Эжена Виолле-ле-Дюка — выдающийся пример сочетания исторического воображения с поисками идеальных и всеобщих корней в прошлом с изощренной строительной технологией для воссоздания этих самых древних начал. С точки зрения реставрации «первоначальное состояние» артефакта — это воображаемое состояние предмета, каким он вышел из рук древнего художника, или здания, каким оно было создано строителями. Так понимаемое, оно, естественно, утеряно, но реставратор, используя художественную фантазию, исторические знания, знания старинной технологии и аналогию с подобными произведениями, имеет право вообразить это «первоначальное состояние» и воплотить его в реставрации в целостном виде — даже если в своей исторической реальности объект никогда в такой цельной форме не существовал и такого «первоначального вида» не имел. Правота реставратора — в реставрации Идеи. Именно здесь лежит принципиальное различие между реставрацией и консервацией — антагонистами в смысле философии истории и этики в плане права на вмешательство в артефакт. «Первоначальным состоянием» в консервации считается то состояние предмета, в каком он был найден археологом; поскольку именно это состояние вещи и несет историческую информацию и ценно в качестве документа, консервация заключается в том, чтобы остановить дальнейшее разрушение, ничего не прибавляя и не домысливая. Понятно, что в чистом виде на практике ни та, ни другая повестка не реализуется, но факт того, что компромисс между эстетическим и историческим, экономическим и «антикварным» подходами на деле недостижим, объясняет для нас иначе никак рационально не объяснимые страсти, которые постоянно разыгрываются и в профессиональной среде, и в публике относительно легитимности той или иной реставрации.
Это принципиальное различие в понимании первоначальности отражается и на том, как определяется объект — исторический или художественный памятник, и на том, как определяется то, что именно в составе памятника считать старым, а что новым. С точки зрения консервации привнесенные для уточнения первоначального облика детали нельзя считать «старыми», поскольку они не имеют «старой» исторической материальности. С точки зрения реставрации эти детали могут считаться «старыми», даже если были сделаны вчера, потому что в них восстановлена, воспроизведена, воссоздана историческая структура оригинала или его исторический внешний вид, его Идея: не состав материала, но историчность реконструированного считается исторически достоверной.
Независимо от аргумента, апеллируя ли к исторической документальности или к эстетической достоверности, оба наших собеседника — реставратор и консерватор — представляли общую платформу, когда каждый со своей стороны высказался с критикой (псевдо)реставрации как копирования и создания подобий прошлого, которые сопровождаются риторикой возрождения и возвращения; как игнорирования автора и самого произведения, его исторической материальности, попрания прошедшего со стороны настоящего, принципа историзма — ради «чуда художественности» и «утоления эстетических капризов».
Путей к магическому вторичному воссозданию безупречно достоверного художественного или документального оригинала быть не может <...> Возможны только подобия, имитации, копии. Даже если средства массовой информации не без успеха выдают их за непререкаемые подлинники детски доверчивому общественному мнению. [Лелеков Л. А. Об эстетических критериях в реставрации]
«Воссоздание» — общий враг и для консервации, и для реставрации, но Бобров здесь имеет в виду конкретные послевоенные проекты «воссоздания», последовательным критиком которых он является: факсимильной реставрации, из которых самым крупным и широко распропагандированным стало воссоздание ленинградских пригородных дворцов. В этом вопросе между ним и его противником Лелековым нет разногласий: подлинность дорога обоим, хотя понимают они ее по-разному; для обоих равно неприемлемы подражания, которые выдают себя за оригиналы. Воссоздание, пишет Бобров, с точки зрения охраны и реставрации памятников совершенно бессмысленное действие, так как воссоздание не является частью процесса наследования, поскольку при этом отсутствует момент сохранения. <...> новое произведение — «макет в натуральную величину», который со временем станет памятником современной культуры, но никогда памятником той эпохи, которую стремится воспроизвести.
Продукт воссоздания, реплика или факсимиле не заслуживают статуса памятника; реплицирование не является ни подлинно историческим, ни подлинно эстетическим актом, но свидетельствует о «потребности компенсировать существенные потери в культурном наследии, как символ преодоления негативного опыта». И наконец, такого рода «макеты» предосудительны еще и потому, что являются «выражением потребительской функции искусства в сфере массовой культуры». Примечательна солидарность между сторонами относительно неприемлемости «массовости» и «потребительства»: здесь являет себя антикапиталистический дух советской реставрации, который напоминает о коммунистических утопиях авангарда 1920-х и выражается с такой прямотой в 1991 году, по иронии истории буквально накануне падения коммунизма.
В этом пункте консервация с ее аргументацией от исторической истины и реставрация, которая апеллирует к художественной правде, оказываются не настолько далекими друг от друга: модернистский историцизм, с одной стороны, и модернистский эстетический элитизм, с другой, обнаруживают третью инстанцию, враждебную обоим: антиисторическую масскультурную потребительскую интенцию апроприации прошлого в его символах и «макетах», потребление объектов, заведомо фальшивых и с точки зрения консервации, и с точки зрения реставрации, но никак не фальшивых с точки зрения массовой мемориальной культуры, с точки зрения коллективной травмы, необходимости в обществе «компенсировать существенные потери в культурном наследии, как символ преодоления негативного опыта».
Именно этот «третий путь», движимый возможностью извлечения прибыли из духовного ресурса апроприированного прошлого, в дальнейшем возобладает над модернистскими социалистическими концепциями обоих оппонентов. Постсоветский транзит от коммунизма к капитализму не привел к ожидаемому установлению демократии, но нивелировал и уравнял между собой все ценности в точном соответствии с Марксовым анализом роли денег, не исключая и ценности исторические и эстетические. Но еще до воцарения рыночных цен на недвижимость, в 1960-е годы, в советской системе охраны культурного наследия, как и в мировых контекстах постмодернистской переоценки ценностей, а следовательно, и в критериях и принципах его, наследия, оценки, консервации и реставрации стало наблюдаться стирание различий между старым и новым, подлинником и копией. «Наследие» — абстрактно-собирательное имя для обозначения комплекса коллективных патримониальных ритуалов и эмоций в обществе потребления — пришло на смену «памятнику» — конкретному материальному предмету или физическим останкам. Появилась идея нематериального, или духовного, наследия, не требовавшего консервации или реставрации; «памятник» как конкретная вещь превратился сначала в «комплекс», потом расширился до «пространства» и «среды» городского или культурного ландшафта; ценность вещи сменилась ценностью «образа», «небесной линии», «перспективы» или «вида». В заповедной культурной или мемориальной зоне объектом патримониальных желаний и коллективных ритуалов становится неопределенное «чувство древности», «дыхание старины», «присутствие памяти» и вообще «атмосфера» или «настроение». В Европе такого рода развитие «от конкретного к абстрактному», от «памятника» к «наследию» объективно связано не только с текущим состоянием капитализма, но и, конечно, с результатами двух мировых войн, которые оставили историческую Европу лежать в руинах. Однако глобальный тренд времени — это все более интенсивное абстрагирование прошлого от его материальности и идеология intangible / world heritage в концепции ЮНЕСКО и его органа ИКОМОС, где материальность прошлого редуцируется до семиотики и прагматики локальных ритуалов коммуникации.
«Культ наследия» отличается от элитарного «культа памятника» широким демократизмом и включенностью масс, возможностью организации и самоорганизации, как, например, в практике туризма и экскурсий или в движениях любителей археологических раскопок и реставраций, которые стали популярны в 60-е годы. Эстетический (или антиисторический) сдвиг в риторике «советской школы» невероятно способствовал этой демократизации, поскольку постулировал приобщение к прошлому и овладение его ценностями в зрительском восприятии, а это последнее поддавалось эстетическому и патриотическому воспитанию. Параллельно этим процессам дематериализации и театрализации патримониальных эмоций размываются и релятивизируются требования аутентичности и критерии художественности; они заменяются моральными нормами патриотической любви и служения Родине; «старое» до безразличия смешивается с «новым», и подлинность материальная уступает место подлинности в смысле «иконической аутентичности» образа.
Примечательно и иронично, что диатриба Боброва против (ленинградского) «воссоздания» публикуется на самом пороге наступления совсем новой эпохи: освобожденная от советского исторического и эстетического контроля, очень скоро расцветет коммерческая эксплуатация прошлого, которая заполонит пространства бывшего соцлагеря макетами, репликами, факсимиле и просто грубыми подделками. Когда-то давно меня поразило, когда на мой вопрос о том, что будет на месте строительного котлована, мне ответили, не моргнув глазом, что «здесь будет особняк восемнадцатого века с офисами». Прошлое оказалось впереди, в будущем. Но это было давно: сейчас в Москве никого уже не смущает зрелище совершенно очищенного от застройки пустыря за забором, на котором красуется надпись «реконструкция», или одиноко стоящей фасадной стены с пустыми окнами, являющей собой «реставрацию» или даже «реставрацию с элементами приспособления».
Советская реставрация зародилась как движение и как область практической деятельности в том же контексте исторической и художественной модернизации — антимодернизационной по духу модернизации, следует добавить, — что и западное движение консервации — охраны (архитектурных) памятников, в том же идеологическом движении использования прошлого как средства символизации коллективной идентичности и исторической судьбы. В ее советском изводе, так наглядно продемонстрированная выше в споре своих двух ведущих оппонентов-представителей, она закончила свое существование как историческая и эстетическая доктрина под влиянием тех же факторов глобального капиталистического мира с его релятивизированными ценностями и ритуалами, в условиях рыночных отношений «мемориального капитализма». Советская реставрация с ее идеями эстетического качества и исторической значимости пострадала от тех же бед, которые постигли европейский исторический и эстетический модернизм на переломе столетия, когда релятивизации и нивелировке подверглись принципы и критерии, которые требовали отделять старое — от нового, высокое — от низкого, вечное — от преходящего и подлинное — от вторичного.
Холодная война, как ни странно, на фоне политической и военной поляризации приводит к еще более тесной конвергенции в этой области гуманитарного сотрудничества: СССР вступает в международные организации по охране культурного наследия, советские объекты включаются в списки мирового наследия, советское влияние в ЮНЕСКО растет, СССР подписывает международные конвенции по охране культурного наследия и активно участвует в выработке все новых и новых документов, растет международная роль СССР как места «мягкой силы», «моральной супердержавы» и привлекательного стиля жизни. Разница между западными ценностями прошлого и западными принципами охраны памятников — и соответствующими принципами «социалистической реставрации» — все более стирается, стремясь постепенно раствориться во все нивелирующей стихии капиталистической символической экономии, в которой и история, и искусство оказываются разного вида нематериальными ресурсами для инвестиций в общую глобальную intangible economy. Все, что казалось твердым, растворяется в воздухе.