Пасынок имперского пограничья: Вильно как столица несуществующего государства
Из книги Лаймонаса Бриедиса про «город странников» Вильнюс
В серии «HSE Bibliotheca Selecta» Издательского дома ВШЭ увидела свет монография литовско-канадского историка культуры Лаймонаса Бриедиса «Вильнюс: Город странников». Сегодня «Горький» публикует отрывок из главы «В зеркале народов», где рассказывается о подвешенном состоянии, в котором столица Литвы оказалась после Первой мировой.
Лаймонас Бриедис. Вильнюс: Город странников. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. Перевод с литовского Таисии Орал
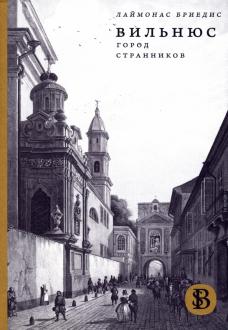 XX век отбросил Вильнюс в мир (пересозданной) Польской и Литовской республики; однако такое модернизированное и национализированное возвращение в «прошлое Сарматии» сужало горизонты государственного выбора для жителей города. В годы русского и немецкого угнетения Вильна долгое время существовала — и даже иногда процветала — в забытьи имперского пограничья; в новой Европе она стала центром национальной и идеологической борьбы. Такое пристальное внимание парализовало город: пока в Париже ворковали голуби мира, Вильне был предъявлен национальный ультиматум, который с учреждением Лиги Наций постепенно, за давностью лет, был оставлен на волю судьбы.
XX век отбросил Вильнюс в мир (пересозданной) Польской и Литовской республики; однако такое модернизированное и национализированное возвращение в «прошлое Сарматии» сужало горизонты государственного выбора для жителей города. В годы русского и немецкого угнетения Вильна долгое время существовала — и даже иногда процветала — в забытьи имперского пограничья; в новой Европе она стала центром национальной и идеологической борьбы. Такое пристальное внимание парализовало город: пока в Париже ворковали голуби мира, Вильне был предъявлен национальный ультиматум, который с учреждением Лиги Наций постепенно, за давностью лет, был оставлен на волю судьбы.
Современное европейское государство, красовавшееся гербом республики и управлявшееся большинством, стало реакцией на унаследованные проблемы Старого Света — народное неравенство и недостаток демократии. Однако ни с политической, ни с общественной точек зрения (и уж тем более с экономической или военной) объявление нации государством проблем не решило. Парадоксально, но сортировка населения по принципу национального гражданства — установление знака равенства между геополитическим этносом и домом — унифицировала регионы Европы. Необходимость соревноваться за безопасное место в политическом пространстве Европы принуждала думать и жить по-новому: пренебрегать анахронизмами места, установившимися общественными взаимоотношениями и путаными межкультурными семейными связями. Выбрать национальность, а тем более создать новое государство могли лишь те группы, которые были согласны частично отказаться от своего прошлого и традиций. Национальное, как и имперское, государство нередко противоречило праву личного и коллективного самоопределения, а стоило народу заполучить государство, как уникальность и открытость родины — особого мира — отчасти оказывались утрачены: дом становился отчизной, бастионом национального патриархата. В Вильне, к сожалению, национальное единение и возрождение духа дома означало раскол среди граждан города, и даже отступление немецких войск и внезапное нападение Красной армии не способствовали объединению местных жителей во имя борьбы с общим врагом.
Некоторые новые национальные государства — как, например, Польша, вышедшая потрепанным победителем из вихря послевоенных битв, — частично восстановили уменьшенные копии своих империй с широкой, разнородной территорией и пестрым, многокультурным населением. Другие народы (среди них были и литовцы с белорусами), которым хуже давалось воплощение национальных стремлений, создали государства-обрывки, оставляя соседям часть своих земель и соотечественников. На этой арене неравных политических и военных возможностей Вильно не слишком везло. Город отчаянно пытался занять столичную нишу, стремился стать гирей геополитического равновесия, объединившей идеологию нового европейского государственного устройства с уникальной этнографией литовского края.
Идея города Вильно как противовеса национальному (литовскому, польскому и белорусскому) государству временами обсуждалась в узком кругу местных интеллектуалов, искавших возможные пути решения проблем современной Европы на территории былого господства Великого княжества Литовского. Каким бы многонациональным ни был город, в народе, за исключением разве что евреев, такой «античный» взгляд на идентичность города не приживался. Утопические рассуждения исторически мысливших политиков оказались тщетными еще и потому, что, по словам одного из сторонников восстановления княжества, в городе дольше, нежели в других местах, царил послевоенный хаос, который и подкосил волю виленских граждан решать политические вопросы своими силами.
Нерешенный вопрос о государственном статусе Вильны ставил под угрозу дипломатический пафос Парижской мирной конференции. Эта конференция была созвана в 1919 году странами-победительницами с целью обсудить послевоенную принадлежность бывших имперских земель. Так называемый виленский вопрос был чересчур сложным с картографической точки зрения и вместе с тем слишком плоским дипломатически, даже политически неловким, чтобы за его решение принимались лидеры крупных стран. В отличие от Гданьска, расположившегося между Германией и Польшей, Вильна не стала объектом ни европейских, ни американских политических забот. По сути, ее историческая миссия в качестве многонациональной столицы ВКЛ не соответствовала геополитическим стандартам обновленной Европы. Вильна должна была либо подняться до давно утраченного уровня престольного города в большом, многонациональном европейском государстве, либо остаться независимым, своеобразным городом-республикой подобно итальянским городам эпохи Ренессанса. Однако, если смотреть с дипломатических парижских высот, в городе было слишком много народов, языков, религий и историй, уникальная смесь которых ни у кого не вызывала большого политического или культурного восторга. Кроме того, политическое положение самого города, как и его окрестностей, без конца менялось. Когда в первые дни 1919 года подразделения немецкой армии стали покидать историческую территорию Литвы, для всех остальных участников регионального конфликта — поляков, литовцев, белорусов и русских большевиков — Вильно оставался желанной военной добычей, геополитической победой, даже если она доставалась ценой утраты добрососедских отношений с прилежащими странами. Поэтому даже спустя несколько лет после официального окончания Первой мировой войны Вильно все еще был в тисках оккупационных режимов.
В международной геополитической игре жители Вильны, многие из которых были беженцами и новоприбывшими, стали заложниками дипломатии: дело о национальной принадлежности, застрявшее в судах международных отношений послевоенной Европы, способствовало появлению большого количества политической макулатуры. Литовцы претендовали на Вильну как на свою историческую столицу; поляки отметали такие древние претензии, опираясь на культурные, языковые и национальные связи большинства виленских жителей с идеей возрождения современной Польши. Представители развалившейся царской России апеллировали к уже позабытым целям союзников восстановить территориальную целостность России и, таким образом, снова прочили Вильне (про)русскую власть. В то же время дипломатически изолированный, но укреплявшийся режим большевиков заявил, что, хотя город Вильно и является законной частью России, советский пролетариат готов дружески разделить его с угнетаемым — литовским и белорусским — крестьянством. Никто не спрашивал или не хотел знать, что Вильне значит для евреев: в дипломатических кулуарах Парижа на евреев Восточной Европы смотрели как на безземельный народ — «автономную» нацию, рассеянную по автохтонным государствам.
Дипломатические дрязги по поводу Вильны оставались неразрешенными отчасти потому, что ни одна из претендовавших на нее стран, по сути, не управляла территорией, чья участь решалась в дипломатических коридорах. В течение трех лет — с 1918-го по 1920 год — через город промаршировало множество армий начиная с Красной армии и литовских добровольцев и заканчивая польскими легионерами. В городе и его окрестностях нескончаемые военные действия становились своеобразным театром, и те, кому доставало храбрости выйти из дома, могли наблюдать с городских холмов кровавую сценографию военных схваток. Горожане привыкли жить точно на поле боя: военное насилие было несистематическим, но всегда непредсказуемым — большевики метили в представителей «национальной буржуазии», а поляки в основном нападали на коммунистов и евреев, и после каждой польской оккупации возникала опасность погромов. Литовцы, не обладавшие ни очевидным военным, ни политическим преимуществом, пытались навязать городу диктат крестьянской культуры — управляли городом на литовском языке, непонятном большинству горожан. Против такой насильственной литуанизации Вильны выступал давний сторонник литовцев датский этнограф Бенедиктсен. В своей книге о возродившейся Литве, написанной на английском языке и предназначенной для международного читателя, он объявлял, что «основой будущего Литвы должна стать земля. У Литвы нет городов и она не может надеяться на то, что в каком-либо городе литовский язык победит». В качестве политического выхода и знака своеобразной открытости европейским культурным пространствам он предлагал литовцам основать совершенно новую столицу — уникальное произведение урбанистики XX века, современный, но надежный с национальной точки зрения город. Вильна, потерявшаяся в лабиринтах истории, языков и культур, терзаемая противоборством идеологий и религиозных традиций, для этой роли совершенно не подходила.
Польские отряды под руководством Юзефа Пилсудского прогнали Красную армию из Вильно накануне Пасхи 1919 года. Лидер поляков заявил об освобождении бывшей столицы ВКЛ. А Рёмерис, вновь ненадолго вернувшийся в город, отметил, что всюду на окраинах Вильно, даже в рядах польской армии, заметны «одни местные, ни дать ни взять местные. Говорят они на том самом польско-белорусском наречии („по-прастэму”), как и все „тутейшие” жители, мыслят и чувствуют в категориях их мышления и чувствования. Это не придает приходу поляков никаких черт вторжения или оккупации, такое положение по самой сути своей отличается от русских времен и немецкой оккупации. Здесь нет пришельцев — „крулевских” элементов, очевидно, что они опираются на своих людей, доверяют им, и поэтому ощущается свойскость. Это обстоятельство действует успокоительно, и у людей создается впечатление, что они снова обрели свое естественное лицо. Все, как и весь Вильно, еще переживают похмелье и медовые дни, поскольку освободились от большевиков, которые создавали ощущение тяжести и ненависти у всех горожан-христиан».
Однако виленская весна Пилсудского длилась недолго, и прогнозируемое им политическое супружество Литвы и Польши не состоялось. В октябре 1920 года, после очередного (несанкционированного) нападения польских легионеров, захваченный Вильно был объявлен столицей сепаратистского государства, названного необычным, исторически необоснованным именем — Срединной Литвой. Им управляла польская военная хунта. Через несколько лет путем неполноценного референдума — многие непольские партии и сообщества его бойкотировали — город Вильно был присоединен ко Второй Речи Посполитой и стал центром нового воеводства. А до тех пор Вильно был объявлен конституционной столицей Литвы; восточные (белорусские) исторические земли Великого княжества Литовского стали частью Советского Союза. Курьезный (и уникальный для Европы) юридический статус города, разделивший его политические функции на две неравнозначные и противоречившие друг другу части, надолго поссорил две страны — Литву и Польшу. В литовском национальном воображении образ Вильно приобрел ностальгические черты, стал подобием потерянного Иерусалима; в польском воображении Вильно был символом государственной чести, национальной романтики и европейской цивилизации — своеобразными Северными Афинами.
В действительности же город оказался в тупике и географическом, и метафорическом. Практически в течение всего межвоенного периода граница между Литвой и Польшей — точнее, демаркационное разделение войск двух стран — так и не была ратифицирована. По обеим сторонам этой границы преобладали реваншистские настроения, все еще действовало военное положение, поэтому, помимо контрабанды, отдельных семейных связей и национального воображения, ничто не связывало Вильно с литовским обществом. И все-таки присоединение города к Польше не стало безусловно признанным фактом новой Европы. Запутанное географическое положение Вильно упоминалось даже в туристическом и легкомысленном, но впечатлявшем своими фотографиями американском журнале «National Geographic». Уже повеяло вероятностью новой войны в Европе, когда в статье, посвященной двадцатилетию независимости Польши, этот журнал представил город своим многочисленным заатлантическим читателям, правда, довольно прохладно: «Вильно: приемное дитя польского пограничья». Однако сопровождавшие статью зрелищные фотографии Булгака вызволили город из небытия: пусть малоизвестный и с неопределенной национальной родословной, Вильно все-таки был достоин того, чтобы его открыл мир.