Парадокс Молотова — Риббентропа
Фрагмент книги Роджера Мурхауса «Дьявольский союз»
Пакт о ненападении между Советским Союзом и гитлеровской Германией — одна из самых неоднозначных страниц нашей истории, которая до сих пор вызывает горячие споры на самом высоком уровне. В издательстве Corpus вышел перевод книги Роджера Мурхауса, которая излагает западную, не совпадающую с официальной российской, точку изрения на те события. «Горький» публикует фрагмент книги, посвященный тому, как на пакт Молотова — Риббентропа отреагировала советская интеллигенция.
Роджер Мурхаус. Дьявольский союз. Пакт Гитлера — Сталина 1939–1941. М.: Corpus, 2020. Перевод с английского Татьяны Азаркович
У тех, кто находился в высших эшелонах советской иерархии, имелся мрачный опыт, который диктовал, что неразумно подвергать сомнению уже принятую политику: они понимали, что решение Сталина окончательно. Об этом беспрекословном послушании мы узнаем из рассказа Ильи Эренбурга, который сам был так потрясен вестью о пакте, что впал в глубокую депрессию и несколько месяцев с большим трудом заставлял себя есть. Летом 1940 года, вернувшись из Парижа в Москву, Эренбург поспешил поделиться со многими людьми своим убеждением, что немцы собираются напасть на Советский Союз, но заметил, что мало кто желает поддержать разговор на эту тему, а в печати между тем продолжали расхваливать дружеские советско-германские отношения. Эренбург попытался поделиться своими соображениями с заместителем наркома иностранных дел Соломоном Лозовским (Дридзо). Но его ждало разочарование: тот просто «слушал меня рассеянно, не глядя на меня, с каким-то грустным выражением лица». Когда же Эренбург упрекнул его в явном безразличии, Лозовский ответил: «Мне лично это интересно. Но вы же знаете, у нас другая политика».
Простые советские граждане, лишенные таких благ, как путешествия за границу или основательное «политическое образование», часто просто ничего не понимали. Ведь до этого им годами твердили, что фашизм — главный враг Советского Союза и что гитлеровская Германия — коварная чужая держава, завистливо посматривающая на советские территории, и у нее на службе состоят «предатели», замышляющие что-то против Сталина. Невозвращенец Виктор Кравченко вспоминал: «Громкие процессы над изменниками — те, из-за которых погибло большинство самых близких соратников Ленина, — исходили из посылки, что нацистская Германия и ее друзья, страны Оси... готовятся на нас напасть». Кроме того, объяснял он, коварство Гитлера давно не вызывало сомнений ни у кого в СССР: «Советские дети играли на улице в фашистов и коммунистов. Фашистам всегда давали немецкие имена, и им сильно доставалось... В тирах мишенями часто служили фигурки в нацистских коричневых рубашках с нарисованными свастиками».
Итак, нацистско-советский пакт отнюдь не воспринимался просто как очередное международное соглашение: он означал полный переворот во внешней политике и идеологии Советского Союза, а потому попросту ставил людей в тупик. В своих воспоминаниях Кравченко писал: «Весть о пакте пронеслась, как метеор, по нашему горизонту и врезалась прямо в ум и сознание партийных начальников», так что они «начали шататься, будто пьяные, от неверия в происходящее». «Лишь когда мы увидели кинохронику и газетные фотографии, на которых Сталин с улыбкой жмет руку Риббентропу, мы начали понемногу верить в невероятное». Объяснять новость о пакте на заседаниях партийных ячеек при заводах и конторах было задачей незавидной. Один молодой коммунист рассказывал, что слушатели сидели «молчаливые и смущенные» и «никто — даже наш председатель — не мог ничего толком объяснить».
Подавляющее большинство советских граждан пребывали в похожем замешательстве, а некоторые даже поначалу восприняли новость о пакте как розыгрыш. Возможно, еще больше их сбивала с толку та быстрота, с которой сменился весь тон, вся направленность общественной и культурной жизни в СССР после подписания пакта. Со дня на день газеты все меньше критиковали нацистскую Германию, зато все чаще восхваляли германские достижения. Кравченко отмечал:
Библиотеки стали «очищать» от антифашистской литературы. Общество культурной связи с заграницей мгновенно обнаружило чудеса немецкой Kultur. Побывав в Москве в командировке, я узнал, что открыты и планируются к открытию несколько выставок нацистского искусства, нацистских хозяйственных достижений и нацистской воинской славы... Словом, пошла мода на все немецкое.
Советская киноиндустрия тоже подверглась чисткам. Фильмы «Профессор Мамлок» и «Семья Оппенгейм» — драмы, рассказывавшие о преследовании нацистами евреев, — бесцеремонно убрали из проката. Но самым знаменитым примером этих культурных репрессий стал случай с киношедевром Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», который вышел на экраны в декабре 1938 года и все еще шел в советских кинотеатрах почти год спустя, когда чернила только просыхали на подписанном Молотовым и Риббентропом пакте. Фильм рассказывал о ратных подвигах прославленного древнерусского князя, который разгромил тевтонских рыцарей, напавших на Русь в середине XIII века. Конечно, фильм снимался по заказу и служил определенной пропагандистской цели: он взывал к русской национальной гордости и старательно показывал жестокости, творимые германскими захватчиками. Для тех кинозрителей, кто чересчур увлекся историческими подробностями, главная мысль четко доносилась в сцене, где толпа русских крестьян слышит, как в Пскове немцы «матерей да жен истерзали»: «Немец — зверь!» И кричит в ответ: «Знаем мы немца!» В 1939 году, как только те самые немцы сделались союзниками Москвы, столь предвзятый кинообраз был сочтен неприемлемым, и фильм сразу же убрали на полку. Но, пожалуй, было уже поздно: по некоторым оценкам, за первые полгода проката «Александра Невского» посмотрели около двадцати трех миллионов советских зрителей.
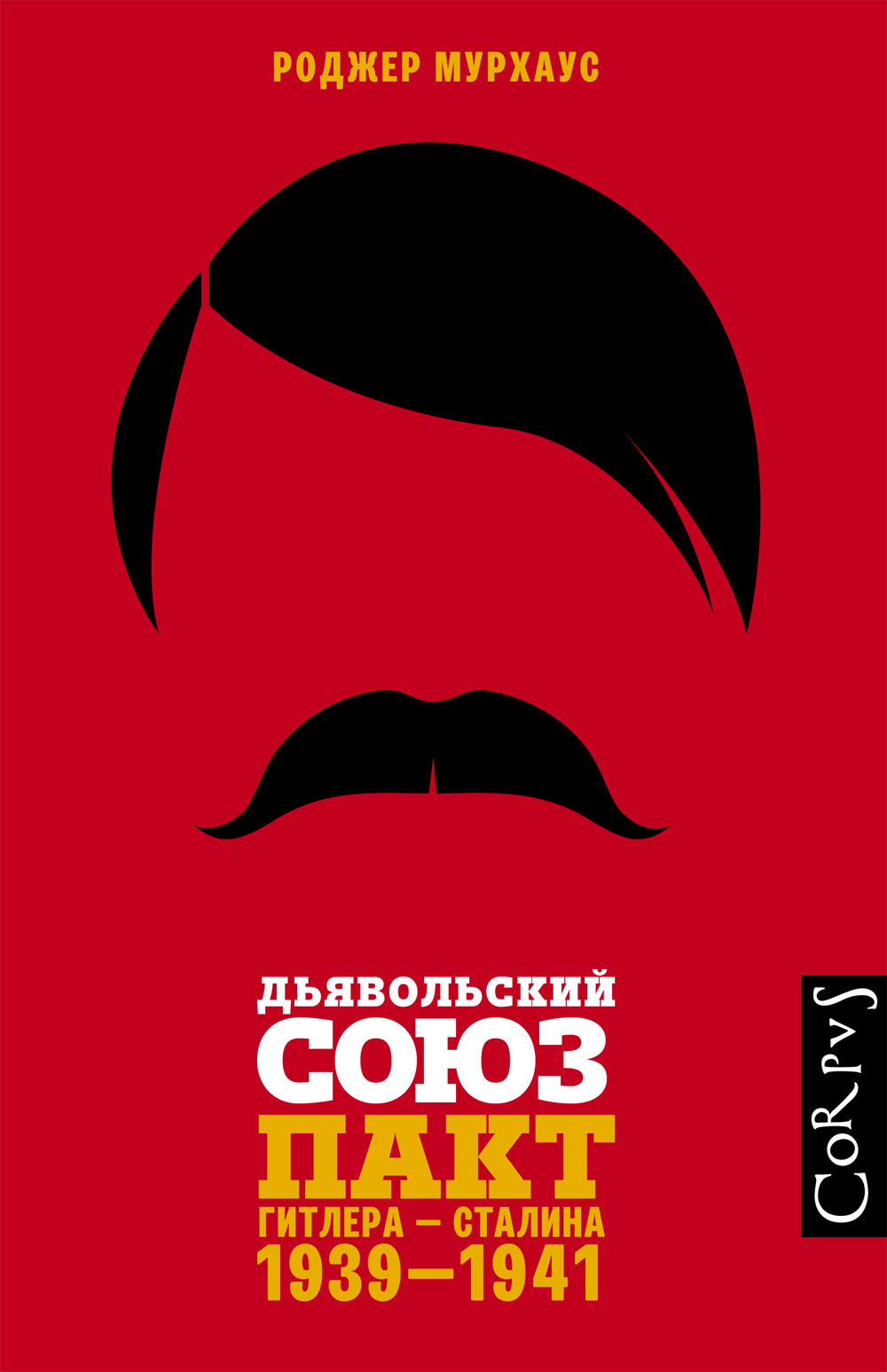 Разумеется, любые политические или культурные директивы спускались с самого верха, и Сталин совершенно верно заметил: «Общественное мнение в нашей стране... надо постепенно подготовить к переменам в наших отношениях, которые принесет с собой этот договор, и надо его приучить к ним». Впрочем, в культурной сфере меры принимались не очень энергичные. Если не считать нескольких выставок и снятия с проката антигерманских фильмов вроде «Александра Невского», почти никаких заметных перемен не происходило. Вскоре немного изменились радиопрограммы: передачи антигерманской направленности заменили другими, создававшими более привлекательный образ нового союзника. А Эйзенштейну дали возможность «исправиться» — поставить на сцене Большого театра «Валькирию» Рихарда Вагнера. Премьера спектакля состоялась в ноябре 1940 года. Постановка вызвала восторженные отзывы: «Правда» восхваляла гений Вагнера и превозносила эту оперу как «величайшее наследие великого немецкого композитора».
Разумеется, любые политические или культурные директивы спускались с самого верха, и Сталин совершенно верно заметил: «Общественное мнение в нашей стране... надо постепенно подготовить к переменам в наших отношениях, которые принесет с собой этот договор, и надо его приучить к ним». Впрочем, в культурной сфере меры принимались не очень энергичные. Если не считать нескольких выставок и снятия с проката антигерманских фильмов вроде «Александра Невского», почти никаких заметных перемен не происходило. Вскоре немного изменились радиопрограммы: передачи антигерманской направленности заменили другими, создававшими более привлекательный образ нового союзника. А Эйзенштейну дали возможность «исправиться» — поставить на сцене Большого театра «Валькирию» Рихарда Вагнера. Премьера спектакля состоялась в ноябре 1940 года. Постановка вызвала восторженные отзывы: «Правда» восхваляла гений Вагнера и превозносила эту оперу как «величайшее наследие великого немецкого композитора».
В политической сфере советский режим чуть более энергично принимал упреждающие меры: в общественных парках и скверах появились «агитпункты», где партийные представители пытались объяснять простым гражданам смысл новой политики и отвечать на их вопросы. В середине сентября 1939 года в одном из таких пунктов в московском парке некий пожилой гражданин высказал мучивший многих вопрос: а вдруг немцы не остановятся в Польше и продолжат двигаться дальше на восток? В ответ партийный агитатор заявил, что такого ни в коем случае не произойдет, ведь имеются твердые гарантии, но, по свидетельству очевидца, говорил как-то неубедительно и туманно.
Подобные инициативы продержались, по-видимому, недолго. Вот что вспоминал позже Хрущев:
Приходилось разъяснять дело так, как тогда у нас разъясняли: газетным языком. И это было противно, потому что никто разъяснениям не верил... Для всех нас как коммунистов... было очень сложно принять мысль о том, что мы объединяем усилия с Германией. Нам самим было трудно принять этот парадокс. А объяснить его человеку с улицы было бы просто невозможно.
Таким образом, тревожные мысли, давно уже не дававшие покоя многим советским гражданам, никуда не делись: их просто нельзя было больше высказывать публично. Поэт Константин Симонов жаловался: «Они оставались теми же, кем были, — фашистами, — но мы уже не имели возможности писать и говорить о них вслух то, что мы о них думаем».
Некоторые, похоже, приняли за чистую монету новый климат, в котором восторжествовали симпатии к Германии, и принялись вовсю восхищаться нацистами или Гитлером лично. Среди молодежи далеко не все негативно относились к Третьему рейху, некоторые хвалили высокий уровень жизни в Германии, а кое-кто одобрял гонения на евреев. Гитлера тоже расхваливали как харизматического вождя — типичного «сильного человека», который «никого не боится, никого не признает и делает все, что хочет». В источниках НКВД и компартии даже сообщалось, что на стенах московских домов кто-то малюет свастики.
Для других же разочарование, вызванное вестью о нацистско-советском пакте, оказалось заразным: оно перекинулось и на другие мысли, порождая недоверие к лагерю своих же сторонников. Как и на Западе, у людей возникало одно объяснение, а именно: между коммунизмом и нацизмом в действительности имеется некое сходство и сродство и подписание пакта лишь подчеркивает эту общность. Как выразился один острослов, Гитлер и Сталин «просто сошлись на том, что больше не будет лидеров оппозиции и не будет парламентов. Теперь все, что осталось, — это чтобы Гитлер переметнулся от фашизма к социализму, а Сталин — от социализма к фашизму». А еще той осенью по Москве ходил анекдот, будто Гитлер с Риббентропом подали заявления о вступлении в компартию и Сталин сейчас раздумывает — принять их или нет.
По мере того как Советский Союз осуществлял — по уговору с немцами — экспансию на запад, голос этого критически настроенного меньшинства звучал все резче: некоторые оспаривали правомерность вторжения в Финляндию и даже выражали сочувствие к жителям Восточной Польши, которые теперь сделались советскими гражданами. «У них были там свои домики, коровы, лошади, они чувствовали себя хозяевами на своей земле, а теперь их ждет голод», — гласило одно мнение. Поэтому неудивительно, что той зимой в одной внутрипартийной докладной записке отмечалось появление среди населения «нездоровых и порой откровенно антисоветских настроений, граничащих с контрреволюционными разговорами» .