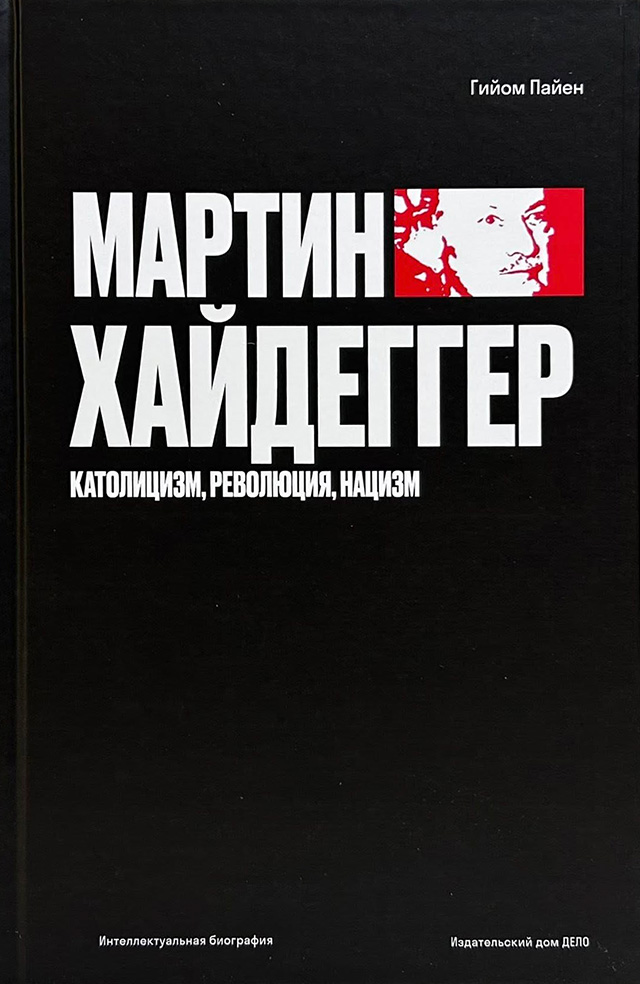Пагубные заблуждения фюрер-ректора
Фрагмент книги Гийома Пайена «Мартин Хайдеггер. Католицизм, революция, нацизм»
Гийом Пайен. Мартин Хайдеггер. Католицизм, революция, нацизм. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2025. Перевод с французского О. Е. Волчек; под научной редакцией С. Л. Фокина. Содержание
|
Период денацификации был для Хайдеггера крайне болезненным. Начавшись еще до открытия университетской процедуры, испытание коснулось в первую очередь его дома: французская военная администрация потребовала у муниципалитета жилые помещения, которых во Фрайбурге было особенно мало из-за масштабных разрушений; в первую очередь их надлежало изъять у членов нацистской партии, которые на время лишились всего или части своего жилья. В середине мая 1945 года, через три недели после того, как французские войска вошли в город, дом Хайдеггера на улице Рётебук был внесен в список подлежащих реквизиции; после проверки удобства помещения оно было временно конфисковано вместе с библиотекой философа. Так как сам он находился на Верхнем Дунае, где укрылась часть философского факультета, Эльфрида обратилась с просьбой об обжаловании решения 10 июня, на что бургомистр ответил 9 июля: «Военная администрация требует, чтобы город предоставил для размещения привилегированных категорий военнослужащих большое количество жилых помещений. В соответствии с декретом военной администрации для этой цели необходимо в первую очередь использовать жилье членов партии. Поскольку профессор Хайдеггер является членом партии, соблюдены все условия для применения конфискации».
Вернувшись с Верхнего Дуная, Хайдеггер 16 июля ответил в гневном послании: «Я не вижу, на каком основании я подвергся этой неслыханной процедуре, — писал он бургомистру. — Я заявляю самый решительный протест против дискриминации в отношении моей личности и моей работы. Почему я, именно я, должен быть не только наказан конфискацией дома, но лишен моего рабочего места и подвергнут диффамации перед всем городом и, прибавлю даже, перед международным общественным мнением?» В период ректорства его волновал вопрос о том, какое впечатление нацистская Германия производила за границей; теперь, преданный остракизму в новой Германии, он вновь беспокоился о том, как его ситуация будет истолкована за рубежом. Вот почему он возмутился, подчеркивая свою непринадлежность к партии, несмотря на членский билет, который хранил до самого конца: «Я никогда не занимал никаких должностей в партии и никогда не занимался никакой деятельностью ни в ней самой, ни в каком-либо из ее подразделений. Но если вам угодно видеть в моем ректорстве политическую вину, то я требую, чтобы мне дали возможность оправдаться, какие бы упреки и обвинения против меня ни выдвигались, а это означает, что сначала мне нужно знать, что объективно выдвигается против меня и исполнения мной государственных обязанностей».
Письмо философа, как и мобилизация ближайшего окружения, имели ограниченный эффект: если библиотеку какое-то время не конфисковывали, Хайдеггеры все равно должны были делить свой дом с семьей французских военных, жившей на первом этаже, — периодически это происходило на протяжении нескольких лет французской оккупации. Дискомфорт был велик не только из-за нарушения сферы частной жизни, вызванного вынужденным сожительством с незнакомыми людьми, но и из-за других жильцов, занимавших дом в то время, когда Германия была в руинах: вместе с четой Хайдеггеров жила также Дорле, жена Йорга, а также друзья, Эльфильда Пагельс, сын Теофила Риса, а затем в 1948 году у них остановился давний друг Хайдеггера Эрнст Ласловски вместе с женой Лене, бежавшие из Силезии от советской оккупации. В конце июля 1945 года им пришлось также приютить бывших узников концлагерей, что, разумеется, отнюдь не порадовало философа.
* * *
В письме к бургомистру, выражая негодование по поводу частичной реквизиции дома, Хайдеггер попросил разрешения объясниться; процедура денацификации, проводимая университетом, предоставила ему такую возможность, но она оказалась лишь долгим сошествием в ад. Комиссия по чистке при Фрайбургском университете работала под контролем военной администрации, в нее вошли Константин фон Дитце, Герхард Риттер и Адольф Лампе, бойцы антинацистского сопротивления из Freiburger Kreis, арестованные после неудавшейся попытки консервативного заговора против Гитлера 20 июля 1944 года; к ним присоединились теолог Артур Альгейер и ботаник Фридрих Олькерс. Из всех членов комиссии наиболее решительно был настроен Адольф Лампе, человек прямой: он хотел во что бы то ни стало предать бывшего ректора суду. Близкий к Вальтеру Ойкену, который был самым ярым противником введения Хайдеггером фюрер-принципа во Фрайбургском университете, он явно не питал дружелюбия в отношении философа и сыграл важнейшую роль в принятии решения об отставке Хайдеггера: его позиция оказалась той самой каплей воды, что переполнила чашу всеобщего терпения. В свое время он пострадал от произвола фюрер-ректора и был полон решимости добиться, чтобы преступные деяния Мартина Хайдеггера подлежали судебному преследованию.
Философ предстал перед комиссией 23 июля 1945 года; наверное, это было самое значительное дело из тех, что ей приходилось рассматривать. Были заслушаны свидетели, Хайдеггер дал свои показания; заключение было готово в сентябре 1945 года, комиссия пришла к выводу о виновности. Правда, в заключении были использованы довольно мягкие выражения, в которых повторялись аргументы, выдвинутые философом в свою защиту. Он жил «до потрясений 1933 года в совершенно аполитичном интеллектуальном мире»; «он ожидал от национал-социалистической революции духовного обновления немецкой жизни на народной основе и в то же время, подобно многим немецким интеллектуалам, примирения социальных антагонизмов и спасения западной культуры от опасностей коммунизма. У него не было точных представлений о политико-парламентских событиях, предшествовавших захвату власти национал-социалистами, но он верил в историческую миссию Гитлера, которая заключалась в том, чтобы произвести духовный поворот, который он сам предвидел». Да, он поддерживал фюрера, но в какой-то мере защитил университет от перекосов времени, оградив «университет от дикой „охоты на евреев“ в апреле 1933 года».
В заключении особое внимание уделялось ректорской речи, подчеркивалось, что она «вызвала большой резонанс в Германии и за рубежом». Это была «личная программа университетской реформы», в которой Хайдеггер «избегал опоры на расовую политику и другие партийные лозунги, напротив, развивал свои собственные идеи подлинной науки, которые по своей сути были очень далеки от простой верности тактике дня; но в то же время, ставя в один ряд со „службой знания“ „службу труда“ и „службу обороны“, он предоставлял нацистской пропаганде возможность использовать свою речь в политическом плане». Была рассмотрена политика ректора: отмечалось, что студенты становились «наглыми и высокомерными», что «большинство профессоров» было уязвлено «ректорскими циркулярами, которые часто были неуместными и казались претенциозными»; подчеркивалось его «ревностное участие в реформе устава университета, в духе нового Führerprinzip и введения в университетскую жизнь внешних знаков гитлеризма (например, так называемого немецкого приветствия)»; указывалось, что «он унижал или подвергал гонениям антифашистских деятелей и даже непосредственно участвовал, через призывы в прессе, в национал-социалистической предвыборной агитации»; в заключении говорилось о взаимном отчуждении между философом и партией, которое нарастало и привело к отставке. Вывод гласил: «Нет сомнения, что Хайдеггер в роковом 1933 году сознательно поставил на службу национал-социалистической революции ауру своего научного имени и характерное искусство своих речей и таким образом в значительной степени способствовал оправданию этой революции в глазах немецкой интеллектуальной общественности, умножал возлагаемые на нее надежды и значительно затруднил защиту немецкой науки от политических потрясений. Но с 1934 года его уже нельзя назвать «нацистом», и нет риска, что он когда-либо снова будет продвигать нацистские идеи». Принимая во внимание урон, который понесет университет в случае исключения Хайдеггера из преподавательского корпуса, комиссия тем не менее решила, что философ должен понести наказание за свой политический выбор; поэтому, несмотря на сопротивление Адольфа Лампе, остановились на досрочном выходе на пенсию, при этом статус почетного профессора позволял ему преподавать, но запрещал принимать участие в управлении университетом. Эта перспектива привела Хайдеггера к размышлениям о преемнике на кафедре: вопрос был важным как для продолжения собственной работы, так и для его имиджа, поскольку только блестящий преемник может преумножить славу того, кто уступает свою кафедру. Именно поэтому он хотел бы, как он писал Рудольфу Штадельманну 1 сентября, чтобы преемником стал Гадамер, один из его самых первых учеников: «В интеллектуальном масштабе, как преподаватель и как коллега именно он имеет наибольшую ценность. Я хотел бы, чтобы он стал моим преемником, если дело дойдет до этого».
Решение комиссии было явно милосердным, хотя ходили слухи, что военная администрация просто отстранила Хайдеггера от преподавания, между тем его приглашали в Баден-Баден читать лекции французам. Перед лицом диспропорции между судьбой, выпавшей на долю философа, и той, что была уготована другим нацистам, которые, будучи менее скомпрометированными, но и менее влиятельными, были уволены или даже интернированы во французские концлагеря, вице-ректор Франц Бём вместе с Адольфом Лампе и Вальтером Ойкеном 9 октября обращаются в ректорат в надежде оспорить принятое решение:
«Ввиду того, что военная администрация в целом ряде случаев налагала более строгие санкции, чем были предложены университетом и полномочной комиссией, меня возмущает тот факт, что один из тех интеллектуалов, что несут полную ответственность за политическое предательство немецких университетов, человек, который в решающий момент занял ключевой пост, стал ректором крупнейшего немецкого университета и, являясь всемирно известным философом, выбрал неверный политический курс, более того, проповедовал во всеуслышание и с нетерпимым фанатизмом ложные и пагубные учения — учения, которые на сегодняшний день он так и не пересмотрел, — меня возмущает, что подобного человека просто „отстраняют от преподавания“, при этом он явно не чувствует необходимости нести ответ за последствия своих действий».
Комиссия была вынуждена возобновить работу над делом Мартина Хайдеггера; необходимо было продолжить расследование и предложить санкцию, более соответствующую тому, что применялось в подобных случаях. Чувствуя нарастающее осложнение ситуации, 15 декабря философ обратился с письмом к председателю комиссии по чистке Константину фон Дитце; в этом послании он взвешивал каждый аргумент, придавая видимостям вид истины, выстраивая свою защиту на тех основаниях, которых будет придерживаться до конца своих дней: «Уже в 1933-1934 годах я находился в оппозиции национал-социалистическому мировоззрению», — утверждал он, превращая философское неприятие онтологической неразвитости нацизма в принципиальную оппозицию, от которой только шаг до своего рода духовного сопротивления, которое было способно конкретизироваться в мужественном, но наивном выборе: «Я верил тогда, что в духовном плане движение могло быть направлено на другие пути, и я считал эту попытку совместимой с социальными и политическими тенденциями движения». Проявляя наивный гитлеризм, отделяя фюрера от его партии, он якобы верил, что «Гитлер, взяв на себя в 1933 году ответственность за весь народ, поднимется над партией и ее доктриной и что все объединится на почве возрождения и сплочения к единой западной ответственности». Это заблуждение быстро рассеялось, потому что кровавая «Ночь длинных ножей», в которой были обезглавлены СА и левое крыло НСДАП, ему якобы открыла глаза: «Это убеждение было ошибкой, которую я признал после событий 30 июня». Этот тезис о разрыве с нацизмом в результате кровавой чистки в начале лета 1934 года был поддержан в комиссии Герхардом Риттером, который утверждал, что благодаря собственному «очень точному и постоянному знанию» философ «тайно с 30 июня 1934 года был безжалостным противником национал-социализма и окончательно утратил веру в Гитлера, которая и привела его к его пагубному заблуждению 1933 года».
По словам Хайдеггера, это временное убеждение, которого он недолго придерживался, имело разрушительный эффект: «Из-за него в 1933-1934 годах я оказался в промежуточном положении, когда я одобрял социальное и национальное (а не национал-социалистическое), отрицая интеллектуальные и метафизические основы доктрины партии (ее биологизм), потому что социальное и национальное, как я их видел, не были связаны по своей природе с биологическим и расовым мировоззрением». Он умело использовал выбранные Гитлером партийные термины «национальный» и «социалистический», чтобы они звучали без каких-либо нацистских коннотаций. Хайдеггер оправдывал это своей оппозицией биологизму, каковой он отвергал, по его утверждению, превращая биологизм в неоспоримую и исключительную интеллектуальную основу нацистской доктрины. Похоже, философ не хотел вспоминать, как двенадцатью годами ранее заявлял, что «духовный мир народа» обретает свое значение как «глубочайшая сила сохранения своих сил земли и крови» и что эти силы воздействуют на человеческое существование, до такой степени моделируя его эмоциональный настрой, что «для любого народа первый гарант его подлинности и величия» заключается «в его крови, почве и физическом росте». Тоталитарный Führerprinzip отнюдь не был частной идеологической деталью нацизма, это была основа основ, которую Хайдеггер безоговорочно разделял: ему удалось скрыть этот аспект, признав, что он потерпел неудачу «в техническом и личном аспекте управления университетом». Философ делал упор на политическую и интеллектуальную чистоту своих намерений в том смысле, что он никогда не променял бы свою философию на более схематичную идеологию, преобладавшую в НСДАП: «Я никогда не приносил в жертву партии дух и сущность науки и университета», — после чего предостойно и преучено заключал: «Я пытался возродить universitas».
Когда 15 декабря Мартин Хайдеггер писал Константину фон Дитце, он был если и не сломлен, то по крайней мере сильно подавлен. Он боялся за своих сыновей; он опасался за свою карьеру; он опасался за свою работу, о которой он думал, что «на самом деле ему еще будет что сказать Западу и миру». Принимая свою долю общей и духовной судьбы и будучи озабочен судьбой двух сыновей, пропавших без вести в России, он был «во всяком случае в состоянии» «завершить часть» того, что было близко «его сердцу» во благо «будущего философии». Кроме того, он переживал глубокий личный кризис: с 1942 года его связывали отношения с Марго фон Саксен-Майнинген, у которой тоже было двое детей, и любовница требовала сделать выбор. Но само развитие политической ситуации, ввергнувшее Германию и Европу в хаос, ставило крест на тех перспективах, которые он усматривал в Истории. Было ли это знаком слабости философа, который видел себя новым оракулом Германии, собеседником Гёльдерлина и Ницше, чье новое слово должно было обеспечить возвращение к вопрошанию бытия? На страницах одной из «Черных тетрадей» он задавался вопросом, не опоздал ли он на сто пятьдесят лет, не была ли эпоха Гёльдерлина более благоприятной для нового начала, или, наоборот, пришел на триста лет раньше, ибо метафизика еще не завершилась через саморазрушение мира. И как высший знак недостоверности он в отчаянии выводит формулу «или», равнозначную отсутствию всякого ответа. Эти сомнения, подобно кроту, подрывали философскую гору, на вершину которой он поднялся, чтобы разглядеть судьбу Германии в лоне Истории.
Хайдеггер, философствовавший с 1920-х годов о нужде (Not), в тот момент испытывал отчаяние несравненно более сильное и сокровенное, нежели то, что овладевало им во время зимних бурь в хижине Тодтнауберга. В конце года он оказался в том крайнем состоянии, когда отчаяние переходит в панику вроде той, что испытывает человек, висящий над пропастью: он изо всех сил цепляется за все, что подвернется под руку, — выступы, корни, расщелины, — все, что может образовать хоть какую-то опору и позволить выкарабкаться или, наоборот, может не выдержать тяжести несчастного и ускорить падение в пропасть. Помимо письма президенту комиссии по чистке Хайдеггер просил привлечь к рассмотрению показания двух свидетелей, которые отличались если и не примерным поведением, то во всяком случае моральными достоинствами: речь идет о Конраде Грёбере и Карле Ясперсе, двух старых друзьях, чьи позиции укрепились в возрождавшейся из руин Германии и которые, как он надеялся, могли бы протянуть ему руку помощи. С одним так и произошло; другой, напротив, ускорил падение философа.