Овеществление индивидов, слипающихся в группу
Из «Я — мы — они» Михаила Ямпольского
愚木混株 Yumu/Unsplash
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Михаил Ямпольский. Я — мы — они. Поэзия как антропология сообщества. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Содержание
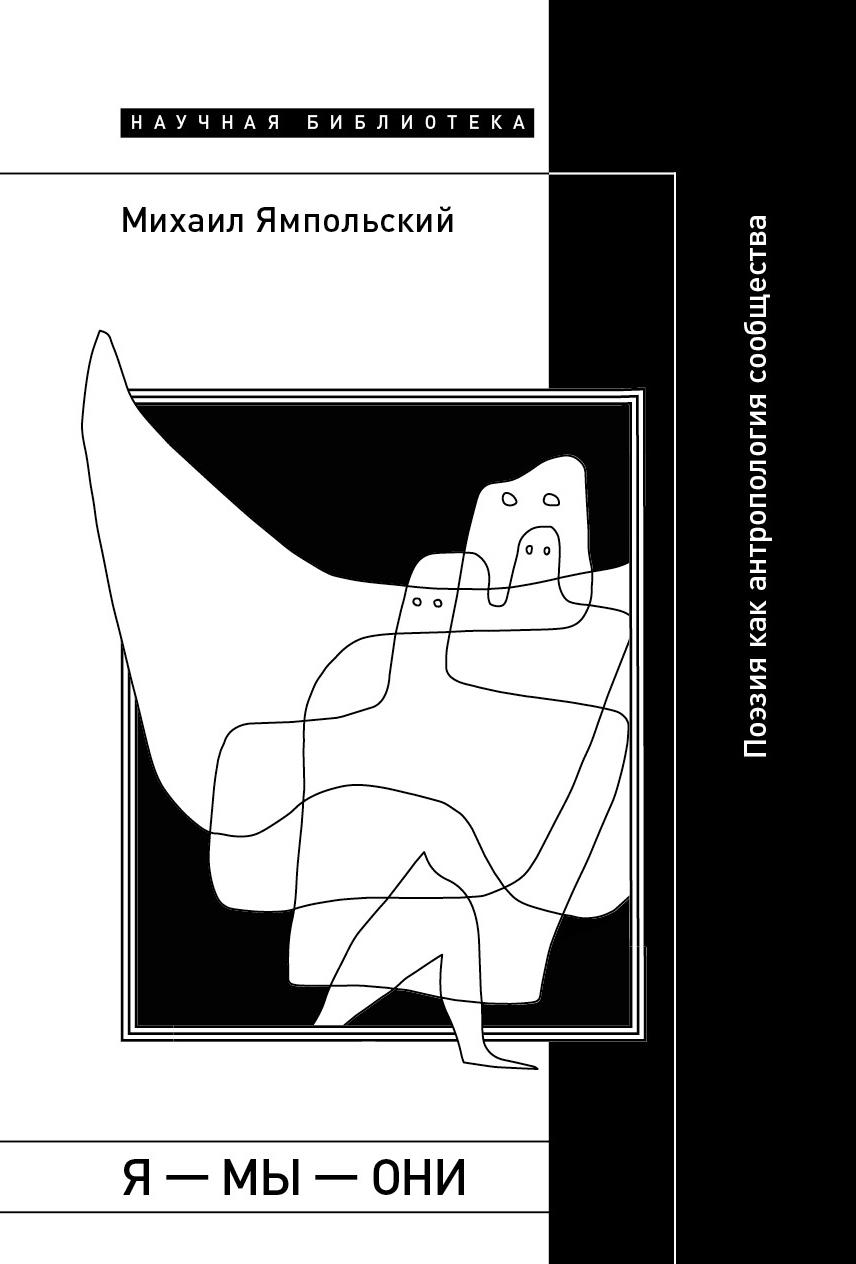
Почему все же Дашевский построил свою картину российской поэзии вокруг большого романтического «я» поэта? Для того чтобы ответить на этот вопрос, как мне кажется, лучше всего начать с краткого напоминания о том, как появилось само понятие субъекта в западной культуре и какие сложности он породил. Хорошо известно, что у Канта субъект противостоит миру объектов и является генератором последнего. Этот мир объектов составляет зрелище мира, разворачивающееся перед субъектом. Но такое представление делало крайне проблематичным понимание сообщества и понимание другого, несводимого к статусу простого объекта. Изабель Тома-Фожиель так сформулировала эту проблему:
Если субъект предстоит перед миром как перед зрелищем, как можно мыслить другого человека, который являет себя не столько как объект, который я изучаю, или как зрелище, которое я созерцаю, но как глаз другого, от которого тоже исходят линии перспективы?
Проблема соотношения «я» и другого, проблема интерсубъективности станет одной из центральных для философии ХX века. Фундаментальным тут был вопрос прямого контакта «я» с другим, контакта, в котором два субъекта определяют друг друга. Это противостояние парадоксально привело ряд мыслителей к выводу о невозможности простой симметрии и равенства в отношениях между «я» и другим. Так, например, Эмманюэль Левинас пишет о том, что сам язык, в котором конституируется оппозиция «я» и «ты», неотвратимо ведет к неравенству субъектов:
Неравенство коренится в этой невозможности существования внешней точки зрения, которая могла бы только уничтожить его. Складывающееся отношение — отношение научения, господства, транзитивности — есть язык, и оно возникает исключительно применительно к говорящему, который, следовательно, сам предъявляет себя как лицо (fait face lui-même).
Только третий (в пределе — Бог) может установить равенство двух асимметричных участников «встречи». Согласно Левинасу, установление сообщества между двумя неравными фигурами возможно только тогда, когда в «я» (в субъекте) проступает трансцендентное, выходящее за рамки той позиции, которую ему предписывает язык. И это обнаружение «третьего», проникающего в двоичность, происходит в лице: «Обнаружение „третьего“, неизбежно присутствующего в лице, достигается только через лицо». Третье неотвратимо вмешивается в двоичность, создаваемую языком. Деррида разделяет эту позицию Левинаса:
Уместно бесконечно настаивать на следующем: даже если опыт третьего определяется как прерывание отношения лицом к лицу… он не является вторичным вторжением. Опыт третьего с первого же момента неотвратим, и его неотвратимость — в лице; даже если он прерывает отношение лицом к лицу, он ему также принадлежит, подобно прерыванию себя, он принадлежит лицу и не может проявляться иначе, чем через лицо… Как если бы единство лица в его абсолютной и неизбежной единичности a priori было множественным.
Двоичность противостоит возможности позитивных отношений, отсылающих к универсальности равенства и справедливости. Только этическое и универсальное (например, доброта), проступающее на лице, может преодолеть первичное языковое неравенство.
Маршалл Салинз, размышляя о примитивной племенной экономике и господствующих в ней формах обмена, обратил внимание на неустойчивость симметричных отношений обмена. Он писал:
Обмен, который симметричен или однозначно равноценен, в некотором смысле невыгоден с точки зрения поддержания союза: он сравнивает счеты и тем самым открывает путь к расторжению отношений. Если ни одна из сторон не «обязана», связь между ними относительно неустойчива.
Оказывается, и «равные» отношения недолговечны без наличия третьего. Жак Годбу пишет о бесконечной цепочке даров и возвратных даров, создающих невыносимую связь между двумя, постоянно меряющими равенство даров и проходящее между ними время. Такая двоичность, по его мнению, изначально обречена. В этом состоянии (негативного долга) есть только один выход — не просто давать, соизмеряя, а давать как можно больше:
Такое состояние взаимного долга двух человек может быть расширено на гораздо более широкую сеть, которая в конечном счете включает космос или Бога.
Бог — этот тот, кто дает не считая и чья фигура позволяет выйти из порочной взаимности. Эти дары без счета и подсчета приостанавливают время, имеющее столь фундаментальное значение для сбалансированного обмена, прерывают и время, и себя, о чем упоминает Деррида. Марк Рожен Анспаш приходит к мнению, что поддержание баланса в обмене возможно только при наличии третьего, которого он иногда называет «абсолютом»:
Чтобы составлять пару, нужно быть втроем: если между партнерами нет этого абсолюта, то они остаются совершенно одинокими. Но это абсолют без заглавной буквы, это само-трансцендирующееся внешнее, он создан этими же двумя и определяет существо их поведения и идентичности.
Двоичность почти неизбежно ведет к неравенству, ревности, враждебности и конфликту, если она не уравновешивается отношением двух сторон к абсолютному третьему.
Я полагаю, что наибольшее влияние на Дашевского в горизонте этой проблематики оказал Рене Жирар, которого он переводил и изучал. Жирар превратил кантовский объект в объект желания. Таким образом решалась и важная проблема направленности сознания на этот объект — проблема интенциональности. «Я» направляет сознание на объект, потому что желает его. Жирар обратился к анализу отношения «я» к объекту в своей первой книге, «Ложь романтизма и правда романа», в которой он писал о двух типах отношения к объекту желания в литературе. Первый тип двоичен и просто соединяет субъект с объектом:
Если «природы» желаемого для объяснения желания недостаточно, обычно обращаются к желающему субъекту. Ему выдумывают «психологию» или же говорят о его «свободе». Однако желание в них всегда спонтанно: его можно изобразить попросту в виде прямой, связывающей субъекта с объектом.
Эта прямолинейная спонтанная фигура (вполне кантовская) усложняется во втором типе отношения, который Жирар назвал «треугольным». Так, Дон Кихот желает чего-то потому, что он подражает желанию идеального рыцаря Амадиса, точно так же, как христианин подражает в своих желаниях Христу. Сам же Дон Кихот определяет выбор объектов желания для Санчо Пансы. Объект в таком треугольнике вторичен и имеет значение лишь в той мере, в какой он соотносится с идеализированным и принимающим непропорционально большое значение желанием посредника, которого Жирар назвал медиатором. Желание теперь проходит не по прямой, связывающей субъекта с объектом, но через иного субъекта, сублимированного другого, который в каком-то смысле становится идеализированным двойником, зеркалом первого:
Рыцарская страсть, заимствующая желание Другого, противостоит желанию от Себя, будто бы присущее большинству из нас. Движение, в котором Дон Кихот и Санчо заимствуют свои желания у Другого, является столь основополагающим и своеобычным, что полностью совпадает с их потребностью быть Собой.
Само становление собой предполагает отказ от себя и замещение себя другим. Более того, медиатор не только вызывает желание, но и оказывается препятствием к его осуществлению. Поэтому подражание образцу (сильному субъекту) и его идеализация сопровождаются возрастающей ненавистью к нему и его отрицанием. Жирар называет эту неразрешимую двойственность термином Грегори Бейтсона double bind. Это поклонение-отрицание ведет к чувству собственной неполноценности, ущербности субъекта, от чего double bind только усиливается.
Если вернуться к поэтическому сообществу, то в нем легко рассмотреть следы той ситуации, которую описал Жирар. Дашевский описывает большое поэтическое «я» как зеркало, в котором отражаются все читатели-почитатели:
Любые оттенки его состояния существенны, любое стихотворение понимайте как зеркало, в котором вы видите себя… Романтизм — это бесконечная комната смеха наоборот, где каждый человек думает, что он — единственный, кто похож на уникальное существо в зеркале, что только он там отражается.
Но именно такая сверхавторитетная фигура вызывает и понятную негативность, стремление ее изгнать и выйти из порочного круга double bind. Отрицание романтического «я» у Дашевского само напоминает негативизм жираровского субъекта по отношению к образцу.
Ситуация, однако, усложняется тем, что треугольная схема Жирара далеко не безупречна. Когда соперничество-подражание достигает предельной интенсивности, треугольник, как заметил Жан-Пьер Дюпюи, исчезает. Пропадает объект:
Точнее, следовало бы сказать об исчезновении интереса к объекту, исчезновении внимания к объекту, поскольку, по мере того как усиливается double bind миметического желания, интерес и внимание сосредоточиваются исключительно на образце-препятствии.
Так пропадает одна вершина треугольника. На месте объекта может возникнуть некий квазиобъект, нечто нереальное, но фантазмируемое, так как обладание им способно усилить «я» и престиж его обладателя. Но настоящую ценность он приобретает только в руках образца. Этот объект должен быть утрачен моим «я» и передан медиатору. Еще раз процитирую Дюпюи:
Вместо треугольника вырисовывается некая фигура, которую можно изобразить так: с одной стороны — субъект, с другой — в его воображении исключительные отношения между другим субъектом и квазиобъектом.
Здесь важное слово «исключительные»: эти отношения, что субъект выстраивает в воображении, исключают его самого, поэтому он оказывается жестоким образом лишен свойства, которое приписывает другому: самодостаточности. Отметим, что это не треугольник, пусть даже снабженный префиксом «псевдо» или «квази», поскольку субъект не видит перед собой двух элементов — другого субъекта и объект, он видит единое целое, неделимое, неразложимое на элементы, и это целое — отношение между другим субъектом и квазиобъектом.
Это странное «единое целое» возникает в результате безысходности соперничества субъекта с образцом. Если предположить, что субъект овладевает вожделенным объектом и тем самым низвергает соперника, победа его мгновенно оборачивается поражением, так как объект поверженного соперника не имеет ценности, а субъект вместо переживания чувства триумфа низвергается в самоуничижение. Для поддержания призрачных остатков треугольника, позволяющих субъекту идентифицироваться с медиатором, ситуация должна быть по-своему заморожена и трансформирована. Пара «медиатор — объект его желания» должна сделаться абсолютно недоступной субъекту, который подвергается удалению. Возникает своего рода «капсула», в которую замыкаются медиатор и объект, — капсула, доступ к которой закрыт для субъекта. Но это капсулирование чужих отношений делает распределение ролей в них очень неопределенным. Дюпюи так характеризует эту ситуацию:
…препятствием являются именно отношения, тесно их связывающие, а не та или иная фигура. А еще это может быть среда, окружение, рассматриваемое как некая замкнутая совокупность, куда вам нет доступа: особый «мир».
В своей первой книге Жирар уделил особое внимание описанию замкнутых сообществ у Пруста. Здесь описываются сообщества Комбре, салон Вердюренов, салон Германтов. Каждое из этих сообществ закрыто для членов других. Посетители буржуазного салона Вердюренов грезят о недоступных для них Германтах и одновременно испытывают по отношению к ним восхищенную зависть и ненависть. Между сообществами также возникают соревновательность и миметизм. Жирар писал:
У Вердюренов… обряды единения — это замаскированные обряды разделения. Мы отправляем их не ради общения с теми, кто соблюдает их так же, а чтоб отделиться от тех, кто отправляет их иначе. Ненависть ко всемогущему медиатору оказывается сильнее любви между верными.
В этой ситуации мешающий достижению объекта желания медиатор уступает место границам замкнутого сообщества, из которого исключается тот или иной субъект. Но сама замкнутость некоего мирка, его ограниченность и отделенность возникают из-за желания субъекта в него проникнуть. Чем сильнее желает субъект войти в его состав, тем сильнее он ощущает свою исключенность и жертвенность. Как пишет Дюпюи, «субъект является дополнением к замкнутому миру в его кажущейся самодостаточности». Таким образом, мир этих удвоений, в котором устанавливается шкала ценности объектов, легко становится миром сообществ, некоего «мы», основанного на исключении или сложных процедурах фильтрации для желающих в него вступить.
Дашевский описывает ситуацию в литературе 2012 года как результат исключения из воображаемого сообщества / включения в него некоторых читателей, вдруг утрачивающих доступ в «мы», подобно Свану, изгнанному из салона Вердюренов:
Тут в скобках надо сказать, что в разговоре о людях, от которых мы ждем чтения поэзии, мы почему-то полубессознательно вычеркиваем из списка потенциальных читателей тех, кто читал стихи двадцать, тридцать, сорок лет назад, то есть бывшую советскую интеллигенцию; мы говорим о людях новых, живущих в новом мире — «креативном» или как его ни назови. И если оставаться в рамках этого ограниченного, на массе наших предрассудков держащегося читательского «мы», то эти «мы» (для простоты можно сказать — те, кто сейчас вышел на Болотную) в последние десять лет жили в очень странной ситуации как бы искусственного или притворного уединения.
Субъект тут не становится результатом некоего синтеза объекта или даже результатом удвоения через образец медиатора, позволяющего ему раздуваться и унизительно скукоживаться одновременно. Субъект теперь оказывается в зависимости от исключенности или включенности в некое мнимое сообщество, некое несуществующее «мы». Но само это сообщество может оказаться лишь плодом умозрительного конструирования самого субъекта. Лев Рубинштейн часто задается вопросами, каково его сообщество, в которое он включен, кто такие эти «мы». Но, конечно, трудно отделаться от ощущения, что, задавая эти вопросы, Рубинштейн сам конструирует «мы» для себя. При этом он описывает стандартные механизмы складывания этого «мы» через насилие и исключение. Так, в очерке «Откуда мы все вышли» он вспоминает о том, как его школьный класс (и сам он в том числе) издевался над учителем по труду («…издевались, или, как это называлось тогда на нашем поганом подростковом языке, „доводили“. Доводили его со всей доступной нам изобретательностью»). При этом измывательство над «исключенным» было простейшим способом не просто складывания сообщества, но и уподобления его членам:
Я, разумеется, и мысли не допускал, что можно и нужно быть не таким, как все. Еще чего! «Шинель» уже была прочитана мною. И что? А ничего. Все мы еще из нее не вышли.
Таким образом, человек, включенный в «сообщество», утрачивал свое «я», становясь как все.
Но и с исключенным тоже происходили существенные метаморфозы. Покуда субъект соотносит себя с неким медиатором, другим, раздутым двойником, он зеркальным образом черпает из него некое подобие собственного возрастающего «я». Но в случае исчезновения медиатора этот двойник пропадал. И единственное, что оставалось, — это противостояние стене, границе, сам факт изгнания и маргинализации. И такая ситуация была неблагоприятна для любого «я» и вела к постоянной утрате субъектности. Все происходило так, как если бы субъект на мгновение возникал, а потом как бы удваивался и превращался в некую вещь, внешне сходную, но без внятных признаков субъектности. Это исчезновение субъектности странным образом повторяло исчезновение «я» у тех, кто был допущен в сообщество и полностью им поглощен. Когда-то Дюркгейм описывал такое овеществление индивидов, слипающихся в группу:
Солидарность, вытекающая из сходств, достигает своего максимума тогда, когда коллективное сознание точно покрывает все наше сознание и совпадает с ним во всех точках; но в этот момент наша индивидуальность равна нулю.
Речь тут буквально идет о Сверхсубъекте, неотличимом от сообщества, как у Новалиса. И далее Дюркгейм разворачивает эту тему неожиданным образом:
…связь, соединяющая таким образом индивида с обществом, вполне аналогична той, которая связывает вещь с личностью. Индивидуальное сознание, рассматриваемое с этой точки зрения, полностью подчинено коллективному типу и следует всем его движениям, так же как предмету обладания передаются все навязываемые ему движения собственника. В обществе, где эта солидарность очень развита, индивид… не принадлежит себе; это буквально вещь, которою распоряжается общество. Поэтому в таких социальных типах личные права еще неотличимы от вещных.
Внутри сплоченного общества индивид опускается на уровень вещи и утрачивает индивидуальность. Субъект же, не допущенный в общество, как бы утрачивает свое место и начинает занимать несколько невнятных «локаций», по-своему воспроизводя в ином контексте те же отношения личности и вещи. Не имея двойника-медиатора, он постоянно отчуждает себя в неких симулякрах. Бернхильд Буа считает эту ситуацию ключевой для немецкого романтизма. Здесь субъект впервые энергично заявляет о себе. Но при этом сама субъектность ставит под сомнение его собственное существование, и он оказывается под постоянной угрозой распада и отчуждения во множестве симулякров-двойников. Это могут быть мертвецы, марионетки, автоматы, куклы, статуи или портреты, странные гомункулы и пр. Такое раздвоенное романтическое «я» мало соответствует представлению о лирическом «я» поэта.