Оплата «женщинами» и «парнями»
Отрывок из книги Пьера Клоссовски «Живой монетой»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Пьер Клоссовски. Живой монетой. М.: Издательство Института Гайдара; СП.: Центр экономической культуры, 2023. Пер. с фр. В. Е. Лапицкого под науч. ред. С. Л. Фокина. Содержание
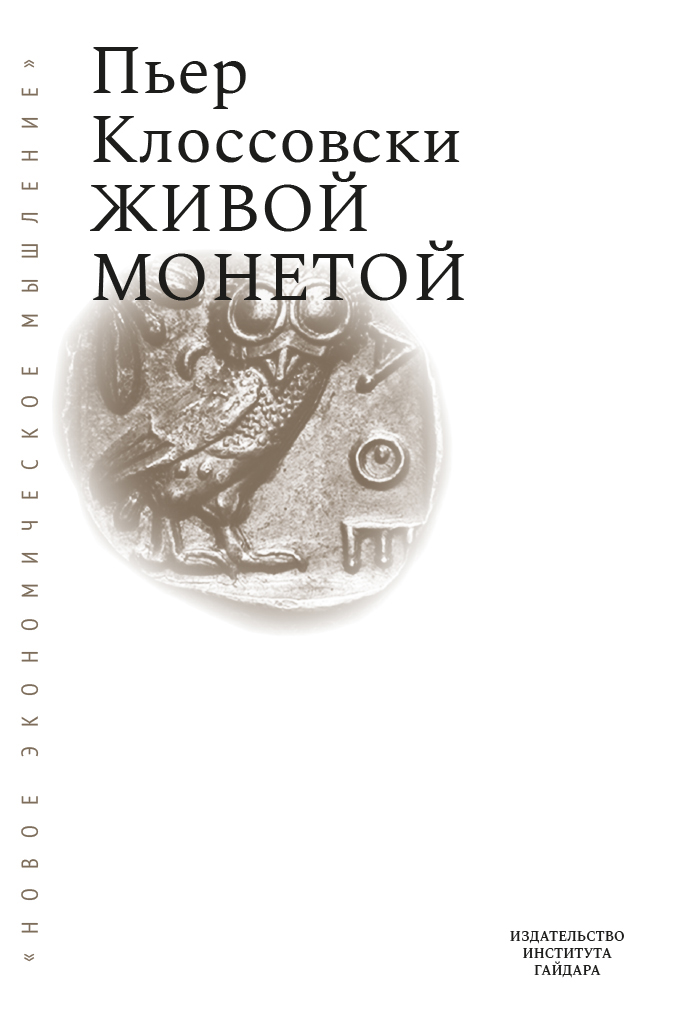 Представим на мгновение невозможную, на первый взгляд, регрессию: пусть на промышленной стадии производители способны затребовать от потребителей в качестве платежа чувственные объекты. Этими объектами являются живые существа.
Представим на мгновение невозможную, на первый взгляд, регрессию: пусть на промышленной стадии производители способны затребовать от потребителей в качестве платежа чувственные объекты. Этими объектами являются живые существа.
Согласно этому примеру натурального обмена, производители и потребители приходят к тому, чтобы составить собрания «личностей», предназначенных как будто бы для удовольствия, для эмоции, для ощущения. Как человеческая «личность» может выполнять функцию разменной монеты? Как производители, вместо того чтобы «покупать себе» женщин, смогли бы брать «женщинами» за свою работу? Как предприниматели, промышленники, будут платить тогда своим инженерам, своим рабочим? «Женщинами». Кто поддержит эту живую валюту? Другие женщины. Что предполагает и обратное: имеющие какую-либо профессию женщины станут оплачиваться «парнями». Кто поддержит, то есть прокормит, эту мужскую валюту? Те, кто располагает валютой женской. То, о чем мы здесь говорим, существует на самом деле. Ибо, не прибегая к буквальному натуральному обмену, вся современная промышленность покоится на натуральном же обмене, опосредованном знаком инертной монеты, нейтрализующей природу обмениваемых объектов, точнее — на симулякре натурального обмена, симулякре, который кроется под формой трудовых ресурсов, стало быть живой монеты, непризнанной как таковая, но уже существующей.
Если усовершенствованное производство инструментов производства в результате приводит к сокращению рабочей силы, если время, выигранное на производстве выигрыша во времени, оказывается предоставлено ощущениям, состязаниям в удовольствии (Фурье), — само ощущение еще не может стать безоплатным. Но симулякр обмена (созданный сначала монетарной системой и, в дальнейшем, условиями промышленного общества) требует, чтобы выигранное время выигрывалось только для других производств.
На практике упразднить заработную плату наличными, чтобы оплачивать труженика живыми объектами ощущения, можно, только если живой объект сам оценивается с точки зрения совершенного труда, если случилось так, что обеспечение жизни уже обеспечено; если обладание живым объектом или объектами проходит строкой в бухгалтерском учете, оно окажется для труженика чисто символическим и, следовательно, монетизируемым. Чтобы объект ощущения мог стоить некоего количества труда, нужно, чтобы этот (живой) объект предварительно составлял ценность, с самого начала равную ценности продукта, если не превосходящую ее. Нет общей меры между ощущением, которое этот живой объект способен доставить сам по себе, и количеством совершенного труда, эквивалентным тем или иным ресурсам, пригодным для возможного содержания этого объекта ощущения. Каково соотношение между ценностью инструментария или территории, оцениваемых по их возможной прибыльности, и ценой, положенной за существование живого существа, источника редкостной эмоции? Никакого, если дело не в том, что неожиданность данности (стало быть, редкостность) живого объекта, источника эмоции, ценится больше, чем обошлось бы его прокормить. Инструментарий приносит такой-то доход; живой объект привносит такую-то эмоцию. Ценность инструментария должна компенсировать стоимость его поддержания; ценность живого объекта, источника эмоции, определяется произвольным образом, при этом из нее никогда нельзя исключать издержки на поддержание его существования.
Не стоит возражать нам тут, что это означает низводить живой объект, источник эмоции, до уровня животноводства, коннозаводства; или уподоблять его произведению искусства, а то и просто алмазу. Ввиду того что речь идет о самодостаточной эмоции, неотделимой от неожиданного и бесполезного существования «монетизируемого» здесь объекта и уже поэтому произвольно оцениваемой.
Чтобы живой объект, источник редкостной эмоции, мог сам по себе возобладать в качестве валюты, следует допустить, что повсеместно достигнуто некое психическое состояние; что это состояние выражается в форме неоспоримых практик и обычаев. Следует ли отсюда, что для этого потребовалось бы не меньшее количество живых объектов, чем циркулирует инертной валюты? Конечно нет, если бы подобный обычай означал исчезновение самой монетарной практики. Но, пусть даже в качестве параллельного рынка к инертной валюте, живая валюта напротив оказалась бы способна выступить в роли золотого стандарта, внедренного в привычки и установленного в рамках экономических норм. Если не считать, что этот обычай глубоко видоизменил бы обмены и их значение. Их никогда не сможет видоизменить обмен редкостными инертными объектами, такими, например, как произведения искусства. Но живой объект, источник сладострастного ощущения, либо станет валютой и упразднит нейтрализующие функции денег, либо, исходя из доставленной эмоции, заложит основы меновой стоимости.
Золото, со своей произвольной ценностью, с его собственной бесполезностью, в некотором роде остающееся метафорой любой эмоции, доставляемой в рамках богатства, из-за универсальности своего режима оказывается столь же бесчеловечным, сколь и практичным. Нормы стоимости, основанные на количестве труда, на первый взгляд более «законные» с точки зрения экономики, все еще сохраняют карательный характер. Стоимость живого объекта, источника эмоции, с точки зрения обмена равна издержкам по его содержанию. Тяготы или жертвы, принятые на себя одержимым обладателем, который его поддерживает, представляют цену этого редкостного и бесполезного объекта. Никакой цифре, кроме как спросу, ее не выразить. Но еще прежде чем рассматривать живой объект как возможное к обмену благо, нужно исследовать его в качестве валюты.
Если, будучи живой, эта валюта должна составлять эквивалент сумме заработной платы — хотя натуральный обмен с самого начала замораживает возможность покупать низшие в силу своей необходимости благá, — к тому же надо, чтобы она была зафиксирована в качестве стандарта. Но тогда тем сильнее проявится естественная диспропорция между количеством труда, взятым в качестве нормы стоимости, и живым объектом в качестве валюты в контексте условий современной экономики.
Если любой инструментарий представляет собой определенное количество инвестированного капитала, то тем паче и, в якобы внекоммерческой области, это относится к объекту ощущений, то есть человеческому существу, которое представляет собой возможный источник эмоции, исходя из возможности коей оно и может стать объектом инвестиции. В коммерческом плане затронутой оказывается не сама особь, а эмоция, которую она вызывает у возможных потребителей. Ошибочный пример, который позволит нам разъяснить, о чем здесь идет речь, — банальный случай кинозвезды: она представляет лишь один из факторов производства. Когда газеты на следующий день после ее трагического конца принимаются определять в денежном эквиваленте отраженные на экране качества Шэрон Тейт или же выяснять траты или расходы по содержанию другой выставленной на всеобщее обозрение женщины, это собственно промышленный капитализм выражает в цифрах, то есть количественно, источник эмоций в свете рентабельности или издержек содержания, что возможно только лишь потому, что эти дамы не выступают как «живая валюта», а трактуются как промышленные рабыни. И, далее, они также не рассматриваются как актрисы или великие искательницы приключений — или просто авторитетные личности. Если бы то, что мы называем здесь промышленной рабыней, расценивалось не только как капитал, но и как живая валюта (абстрагируясь от всех неудобств, которые влечет за собой такого рода установление), она тем же махом принимала бы на себя статус знака ценности, целиком составляя всю ценность, то есть статус блага, соответствующего «непосредственному» удовлетворению уже не некой потребности, а исходного извращения.
Как «живая валюта», промышленная рабыня одновременно выступает в роли и обеспечивающего богатство знака, и самого этого богатства. В качестве знака она подходит для всех прочих видов материального богатства, в качестве богатства исключает тем не менее любой другой спрос, если это не спрос, удовлетворение которого она представляет. Но ее статус знака в равной степени исключает и само, собственно говоря, удовлетворение. Вот в чем живая валюта существенно отличается от положения промышленной рабыни (знаменитость, звезда, рекламная манекенщица, стюардесса и т. п.). Та не сможет претендовать на звание знака, покуда сама различает то, что соглашается принять инертной валютой, и то, чего стóит в собственных глазах.
Тем не менее эта явная разница, которая здесь снова, как и в других местах, состоит в ведении морали, лишь затемняет фундаментальное смешение: на самом деле никто и не думает определять эту категорию «производительниц» как «рабынь» — термин «рабыня» выражает если не предложение, то по меньшей мере доступность для спроса, кроющегося под спросом, отражающим ограниченные потребности. Изолированная от являющегося ее источником живого объекта, эмоция, став «производственным фактором», оказывается рассеянной по множеству изготовляемых объектов, каковые посредством определяемых ими ограниченных потребностей отводят в сторону негласный спрос — и тут она, в сравнении со всей «серьезностью» условий труда, становится смехотворной. Таким образом, промышленная рабыня столь же доступна, как и любая другая рабочая сила, поскольку, не пытаясь установиться в качестве знака, в качестве валюты, она должна «честно» соотноситься с валютой инертной. И термин «рабыня» в сущности чрезмерен, неуместен, оскорбителен, с тех пор как она свободна принимать или нет свою заработную плату. Человеческое достоинство остается спасенным, и деньги сохраняют всю свою ценность. А именно возможность выбора, подразумеваемая абстрактной функцией денежных средств, требует, чтобы любая оценка никогда не наносила ущерба личной целостности, проявляясь лишь в отношении отдачи от продуктивных способностей личности, так чтобы затрагивать «непредвзятым» образом и обеспечивать только нейтральность объектов. Но это порочный круг: с промышленной точки зрения личная целостность абсолютно не существует, кроме как в — и благодаря — оцениваемой в качестве валюты отдаче.
Как только телесное наполнение промышленной рабыни целиком и полностью включается в состав оцениваемой отдачи того, что она способна произвести (поскольку ее физиономия неотделима от выполняемой ею работы), разграничение между личностью и ее деятельностью начинает казаться правдоподобным. Телесное наполнение — это уже товар, независимо и вдобавок к тому товару, в производство которого это наполнение вносит свою лепту. И отныне промышленная рабыня или устанавливает тесную взаимосвязь между своим телесным наполнением и приносимыми им деньгами, или же подменяет собой функцию денег, сама становясь деньгами: одновременно эквивалентом богатства и самим богатством.