О сущем и вещем
Григорий Кружков — о переводе одного стихотворения Кей Райан
В сентябре этого года исполнилось 80 лет Кей Райан — американской поэтессе, отмеченной на родине целым рядом престижных литературных наград, но практически неизвестной российскому читателю. По этому случаю издательство Jaromir Hladik Press выпустило подборку ее стихов и эссе в русских переводах. Предлагаем ознакомиться с небольшой статьей переводчика Григория Кружкова, вошедшей в состав этого сборника.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Кей Райан. Река Ниагара. Избранные стихотворения, эссе и рецензии. М.: Jaromir Hladik Press, 2025. Перевод с английского Григория Кружкова и Лилии Ширшневой
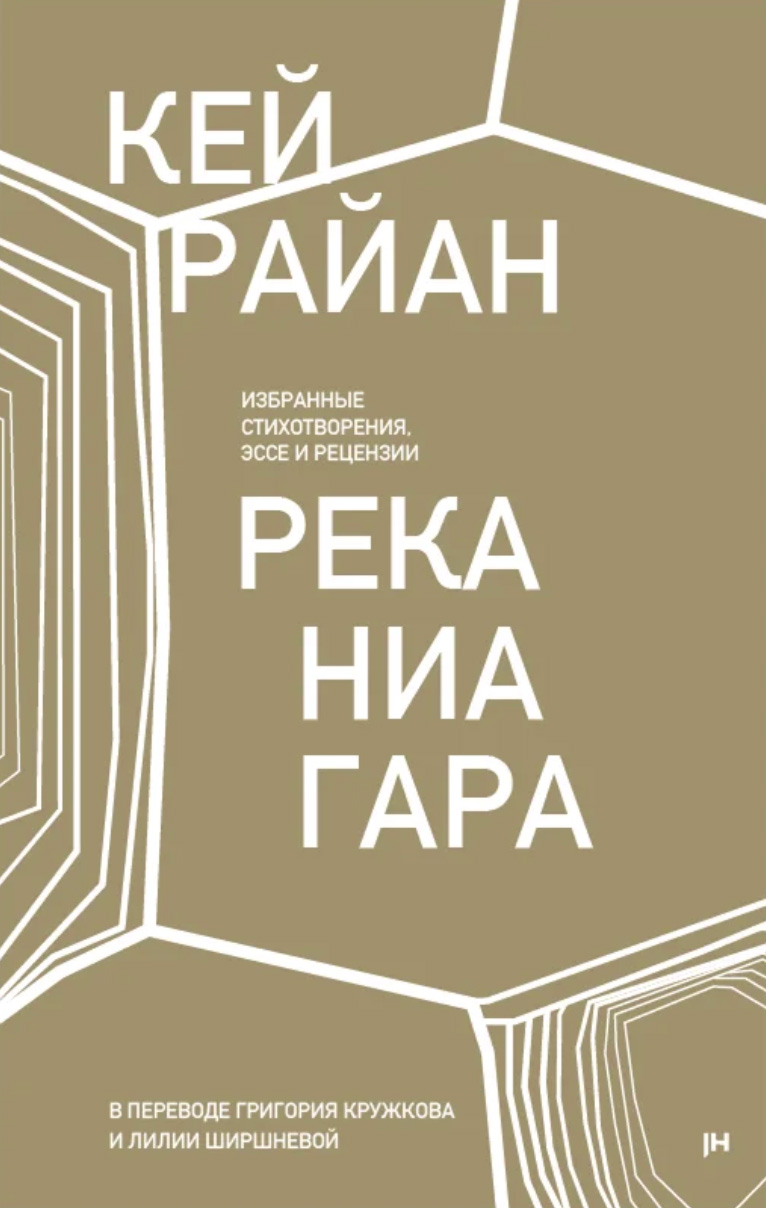
ПАЛЬМА НА КРАЮ СОЗНАНЬЯ
1.
Тут впору снова вспомнить вещего Бояна. Ведь и мысль переводчика — в поисках смысла, в поисках нужного слова — не только растекается белкой по древу, но легко перескакивает с одного древа на другое. И соловьем она скачет, и волком; и в какую только даль не забирается, «рыща тропой Трояновой через поля на горы». Вот один пример.
Стихотворение американской поэтессы Кей Райан «The Palm at the Edge of the Mind» начинается так:
Итак, все исполнилось —
и он вернулся…
Герой не назван по имени, но сюжет легко считывается: воскресший Христос возвращается в Иерусалим инкогнито. Первый день после Пасхи. В траве обычный послепраздничный мусор — обрывки целлофана, скорлупа от яиц. Люди, занятые своей будничной жизнью, не обращают внимания на прохожего. А он еще не знает, стоит ли ему открыться миру или лучше остаться неузнанным:
Как было хорошо просто жить,
удивляться деревьям, цветам,
наплывам света и шума
и своим собственным
меняющимся порывам —
открыться миру,
или глубоко затаиться.
Название «The Palm at the Edge of the Mind» — это строка из стихотворения Уоллеса Стивенса «Of Mere Being», одного из самых памятных и самых последних его стихотворений.
Кстати, пальма тут уместна еще и потому, что воскресший Христос вступает в Город той же самой дорогой, на которой неделей раньше его встречали с пальмовыми ветвями в руках (отсюда Пальмовое воскресенье, в русской традиции — Вербное).
Только в этот раз он, кажется, не готов повторить свой крестный путь. Он вдруг ощутил, как хорошо быть не богом, приносящим себя в жертву, а просто человеком: «It was wonderful to be a man…»
Вот здесь автору и могло вспомниться название стихотворения Стивенса: «Of Mere Being».
Дублировать чужое название Кей Райан, конечно, не могла; но можно было дать вместо него — первую строку стихотворения Стивенса, — и тем самым «метонимически» (то есть по близости) ввести в подтекст и его название: «Of Mere Being» — «[О том, чтобы] просто быть».
2.
Как известно, стихотворение Уоллеса Стивенса было написано в апреле 1955 года незадолго до его смерти.
Пальма на самом краю сознанья,
Там, где кончается мысль, возносит
В воздух — свои узоры из бронзы.
Птица с золотым опереньем
Поет на пальме песню без смысла
Песню без смысла и без выраженья.
Чтобы мы знали: не от рассудка
Зависит счастье или несчастье.
Птица поет. Перья сияют.
Пальма стоит на краю пространства.
Ветер в листве еле струится.
Птицыны перья, вспылав, плавно гаснут. [1]
Между прочим, проблема с названием была у переводчика и здесь. «О том, чтобы просто быть» — перевод формально верный, но безнадежно прозаический. Попробуйте-ка приладить это название к загадочному и сновидческому стихотворению Стивенса.
Тут опять помогают аллюзии; и ведут они в сторону знаменитого «Плавания в Византию» Уильяма Йейтса. «Птица с золотым опереньем» Стивенса, несомненно, тот самый золотой соловей, певший при дворе византийского императора, который символизирует у Йейтса бессмертие искусства:
Развоплотясь, я оживу едва ли
В телесной форме, кроме, может быть,
Подобной той, что в кованом металле
Сумел искусный эллин воплотить,
Сплетя узоры скани и эмали, —
Дабы владыку сонного будить
И с древа золотого петь живущим
О прошлом, настоящем и грядущем.
«Плавание в Византию»
Итак, нужно было придумать название, которое звучало бы так же загадочно, как в оригинале («Of Mere Being»), передавало бы идею вечной жизни искусства и содержало перекличку с Йейтсом. Но где взять такое название?
Тут у переводчика единственный путь: впасть в творческий транс и выудить его из моря подсознательного. Тем более что сам Стивенс подсказывает ориентир: «на краю сознанья, там, где кончается мысль».
И вот, когда я закинул невод в третий раз, на поверхность неожиданно вытащилась фраза: «О сущем и вещем».
Здесь тебе и то, что просто существует (mere being), и та самая вещая птица Йейтса, ведающая прошлое и провидящая будущее. А главное, это звучит как нужно: таинственно и торжественно. Поклонился я в пояс золотой рыбке и оприходовал это название.
3.
Получается цепочка: название Райан приводит нас к стихотворению Стивенса, а оно, в свою очередь, кивает на Йейтса.
Попробуем начать с последнего, третьего звена этой цепочки. «Плавание в Византию» Йейтса — стихи о бессмертии искусства. Поэт — только расходный материал, один из мастеровых бессмертия. Обращаясь к древним мудрецам, своим «учителям пения», он восклицает:
Consume my heart away; sick with desire
And fastened to a dying animal
It knows not what it is; and gather me
Into the artifice of eternity.
«Спалите мое сердце в огне: больное страстями и обреченное смерти, оно само себя не понимает; и приобщите меня к творимой вами вечности».
В этих стихах нет непременной похоти жить: Йейтс знает, что, «развоплотясь», он больше не воскреснет.
У Стивенса, как мне кажется, акценты немного другие. Его птица бессмертия — не изделие каких-то эллинских мастеров; нарисованная им картина, в отличие от Йейтса, не подкреплена никакими туманными теориями о Великом колесе истории, о «золотом веке» императора Юстиниана и так далее. Она просто существует — вне времени и пространства.
Пальма Стивенса, стоящая где-то «на самом краю сознанья», мерцает там, как некий мираж, реальность которому придает лишь ряд ненавязчивых, но внятных аллюзий. Ее монументальная листва — «узоры из бронзы» — напоминает о «Памятнике» Горация. Думаю, она связана и со знаменитой «Пальмой» Валери, возносящей в вышину свои щедрые и неистощимые плоды (символ творческого духа), — и с пальмой Гёте, о которой, как мы помним, грезила «на Севере диком» одинокая сосна:
И снится ей всё, что в пустыне далекой —
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет. [2]
(«Сосна и пальма»)
Только, если применить эту диспозицию к Стивенсу, мы обнаружим, что у него подобным образом грезит не северная сосна, которую заносит «снегом сыпучим», а некий таинственный Снежный человек («The Snow Man»), холодеющий посреди снежной пустыни:
И кто-то, осыпанный снегом,
Глядит, не зная, кто он,
В ничто, которого нет, —
И то, которое есть.
(«Снежный человек» [3])
У Стивенса все таинственно и неоднозначно. Его Жар-птица искусства («птица с золотым опереньем») поет песни, в которых бесполезно и незачем искать смысл. Поэзия просто существует — безо всяких причин и оснований — как Вселенная, которая, по словам Гераклита, есть огонь, попеременно вспыхивающий и угасающий. Сравните у Стивенса:
Птицыны перья, вспылав, плавно гаснут.
Но почему стихотворению, тема которого — бессмертие искусства, Стивенс дал такое странное название: «Of Mere Being»? Какой в нем содержится message (прошу прощение за варваризм)?
Тут надо учесть одну вещь. Названия Уоллеса Стивенса знамениты своей неожиданностью и странностью. Скажем, «Le Monocle de Mon Oncle» [4], или, например, «Прилично одетый мужчина с бородой». Что делать — игнорировать чудачества автора? Но без них стихотворение невозможно правильно понять. Часто эти названия вводят антитезу или корректировку сказанного. А также служат Стивенсу для снижения тона, для иронического заземления пафоса.
Это напоминает слышанный мной рассказ об одной лекции С. Аверинцева, завершая которую, он махнул рукой и сказал: «А может быть, всё наоборот».
Тут, мне кажется, как раз такой случай. В стихотворении «Of Mere Being» говорится о бессмертной птице искусства — той самой, которую воспел Йейтс, противопоставив ее «лихорадке и тщете земной», то есть обычной жизни. А в названии — та самая «просто жизнь» (mere being). Не потому ли, что в некотором экзистенциальном смысле переживание искусства и переживание жизни равны, может быть, даже тождественны?
4.
Для Стивенса, сорок лет жившего двойной жизнью менеджера страховой компании и поэта (о чем его сослуживцы не подозревали), такая диалектика была естественна. Он ценил обеспеченность, порядок и комфорт. Он уравновешивал, как эквилибрист, эти две стороны своей жизни.
Судьба богемного поэта, приносящего себя в жертву искусству (как его любимый Поль Лафорг, умерший от чахотки на парижской мансарде) не привлекала Стивенса; он отказался от нее еще в молодости. Тема выбора, тема возможного отказа от призвания остро занимала его. О том свидетельствует его поэма «Плавание комедианта» (1921-1922), описывающая путешествие чудака Криспина (ироническое alter ego автора) по островам воображения — путешествие, приводящее его в конце концов «к уютному милому дому» и четырем голубоглазым дочуркам. Тут явная аллюзия к шуту Панургу, искавшему в дальних краях ответа на свой вопрос: «жениться или не жениться» (и пристававшему с этим вопросом к Пантагрюэлю).
Колебания Криспина, его сомнения и хаотические вопросы к самому себе («Изгнать ли с плачем прошлые мечты, / В какой глубокой ступке истолочь?») заканчиваются вполне «реалистически»:
И вот
Враг стеганых домашних одеял
По самую макушку им укрыт…
(«Плавание комедианта». V. Уютный милый дом»)
Можно предположить, что именно эту возможность отказа от призвания ради «просто жизни» и усмотрела Кей Райан в неожиданном заголовке стихотворения «Of Mere Being». Иначе к чему это странное, взятое у Стивенса, название: «The Palm at the Edge of the Mind»? Какое оно имеет отношение к тому «второму пришествию» Христа, которое описывается в стихотворении Райан?
5.
Но как сделать так, чтобы отсылка к Стивенсу была внятна читателю русского перевода? Никак, если у него нет основательного знания американской поэзии. Значит, нужно подсказать, нужно дать ему хотя бы ориентир для самостоятельного поиска. В таких случаях на помощь приходит эпиграф. Я решил последовать этому эффективному приему: дал в эпиграфе ссылку на строку Стивенса, а название стихотворения Райан по необходимости упростил. Получилось так:
ДАЛЬНЯЯ ПАЛЬМА
«Пальма на самом краю сознанья…»
— У. Стивенс, «О сущем и вещем»
Итак, все исполнилось;
и он вернулся.
Не понадобилось никаких
пророчеств, никаких
легендарных предательств.
Он вступил в город
той же самой дорогой.
Был будний день,
первый день после Пасхи.
Он любил этот мусор в траве,
целлофан и яичную скорлупу.
Распахивались двери,
люди шли по своим делам,
едва замечая его, озабоченные
страхом что-то потерять
или надеждой обрести.
Как было хорошо просто жить,
удивляться деревьям, цветам,
наплывам света и шума
и своим собственным
меняющимся порывам:
открыться миру,
или глубоко затаиться.
6.
Так случилось, что тема бога, отказывающегося от своего земного подвига и тернового венца, и сама эта дилемма — открыться или затаиться — была уже отработана мной, хотя в несколько ином тоне и регистре, в написанном двадцатью годами раньше стихотворении «Улитка знает секрет».
УЛИТКА ЗНАЕТ СЕКРЕТ
Улитка знает секрет,
но никому не откроет,
ежику лишь откроет
секрет, который невидим.
— Ежик, скажи секрет свой,
смело пред нами откройся:
поверь, мы тебя любим
и никогда не обидим.
Но ежик не выдаст секрета,
он крепко в себе его держит.
— Неужто ты нас боишься,
таких родных и хороших?
Так спрашиваем, забывая
о Боге в венце терновом,
с тех пор кто поверит миру,
какой простоватый божик?
Так бывает: чужое стихотворение попадает в резонанс с собственными стихами, как будто ты угадал его задолго до того, как прочел. В таких случаях перевод становится простым узнаванием. Так порою при первой встрече мы узнаем человека, которого прежде видели только во сне…
7.
Борис Пастернак писал о «тайном придатке», который мерещился ему за строками Китса и Суинберна и который он долгое время относил к обаянию самой английской речи. Пока не осознал, что «этот таинственный придаток, сообщающий дополнительное очарование каждой английской строчке», есть незримое присутствие Шекспира — и его влияние на всю последующую английскую поэзию [5].
Вот и мне в этом «mere being» Стивенса слышится отзвук шекспировского «to be or not to be» — начало знаменитого монолога Гамлета, полный смысл которого до сих пор остается загадкой. О чем это? О добровольном уходе из жизни? Но почему же этот заезженный в обиходе вопрос толкуется в следующих строках совершенно иначе:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them…
То есть «смириться ли перед судьбой» (to suffer) или «ополчиться против моря зла» (to take arms) и «дать отпор» (by opposing end them)? Ни о каком самоубийстве тут и речи нет. Более того, весь образ Гамлета, как он нарисован Шекспиром, совершенно не вяжется с предположением, что он станет закалываться, травиться или вешаться из-за чего бы то ни было. Рассуждения о том, что можно «свести счеты с жизнью простым кинжалом», — абстрактное краснобайство. Реальная дилемма, стоящая перед Гамлетом, иная, и она заявлена с самого начала: смириться или ополчиться.
Где тут — «быть» и где — «не быть»? Логически рассуждая, тут есть два варианта.
Если ополчиться — это значит «быть», мы попадаем в ситуацию трагедии, стержень которой всегда поединок героя с судьбой. Принять бой и погибнуть означает «быть», потому что подвиг не отменяется гибелью героя. Не принять боя значит для него «не быть».
Но возможен и обратный вариант. Если силы зла выглядят неодолимыми, тогда сразиться — значит погибнуть («не быть»), а смириться — выбрать жизнь («быть»). В героической парадигме это, разумеется, ложный выбор. «Так трусами нас делает раздумье», — говорит Гамлет; но он уже не может не задумываться. Он все-таки виттенберговский студент, нашпигованный логикой и философией.
«Все в новой философии — сомненье». [6]
Эта строка Джона Донна объясняет многое в поведении Гамлета, в его так называемой «нерешительности». Многое, но не всё. За колебаниями датского принца, за всеми его мучительными монологами стоит мощный первоисточник — Моление о чаше в Гефсиманском саду. Гамлет так же, как Христос, послан отцом восстановить порядок в пошатнувшемся мире — и так же страшится чаши, которую ему предстоит испить (даже если он сам себе в том не признается).
«„Гамлет“ — драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного предназначения», — писал Б. Пастернак [7].
Мысль о том, что Гамлет может отказаться от завещанной ему мести и смириться со status quo, кажется кощунственной. Но не более кощунственной, чем версия о том, что Христос может отказаться от своего предназначения и выбрать «просто жизнь» — жизнь обыкновенного человека на земле. Но именно на этом заканчивается стихотворение Кей Райан — на точке выбора.
«Открыться миру / или глубоко затаиться».
To be or not to be.
Примечания
[1] Перевод мой.
[2] Перевод М. Ю. Лермонтова.
[3] Анализу этого стихотворения посвящена моя статья «Снежный человек. Ars poetica Уоллеса Стивенса // Стивенс, Уоллес. Фисгармония. М.: Наука, 2017 (Литературные памятники). С. 298–305.
[4] Монокль моего дядюшки (фран.)
[5] Пастернак Б. Л. Заметки переводчика // Зарубежная поэзия в переводах Б. Л. Пастернака М.: Радуга, 1990. С. 548.
[6] Джон Донн. «Анатомия мира. Первая годовщина». Перевод Д. Щедровицкого.
[7] Пастернак Б. Л. Замечания к переводам Шекспира // Зарубежная поэзия в переводах Б. Л. Пастернака. С. 552.