«Никто из людей не остров»
Отрывок из книги «Что-то будет, вот увидишь»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Христос Иконому. Что-то будет, вот увидишь. М.: ОГИ, 2021. Перевод с греческого Анны Ковалевой. Содержание
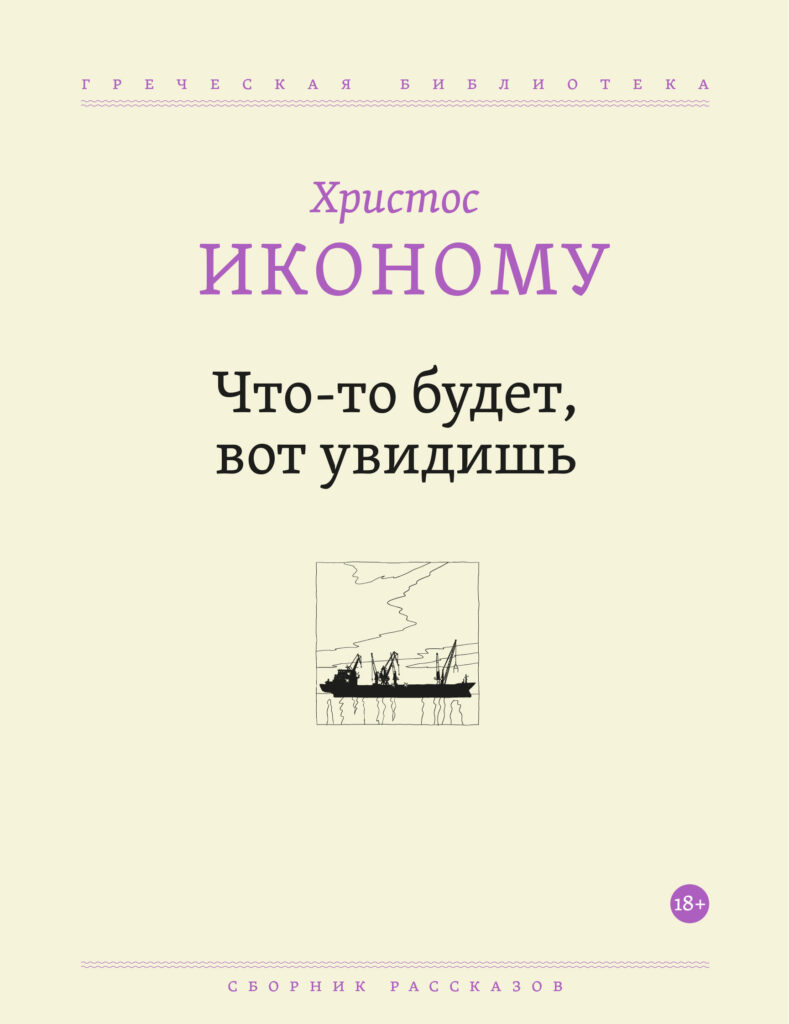 Для бедных людей
Для бедных людей
Когда тебя выгоняют с работы, все равно, что хребет перешибают.
В тот день, когда нас выгнали с работы, я спустился к порту. Пешком из Коридаллоса, словно за мной гнались, Халкидона, Маниатика, потом прямо вниз по улице Фермопил до Айос-Дионисис — к причалам критских паромов. Как будто за мной гнались, потому что день был, не знаю, чудовищный, июль месяц, далеко за полдень, от зноя в глазах темнело. Все в тот день было освещено странным светом — черным и жестким, как возмездие, светом, что менял привычные очертания предметов и делал их неузнаваемыми, дома, улицы, машины — все казалось чужим, словно бы ты был иностранцем в чужой стране, и люди исчезли с улиц, только и можно было изредка встретить что пса, что жадно слизывал с тротуара воду, капающую сверху, из кондиционеров, они вибрировали и задыхались в последней агонии, а я шел вперед и смотрел вверх и говорил, что там, наверху, был совсем другой день, совсем другая страна, один прохладный день, одна страна, что дремала, прохладная, сытая, напуганная. Я шел вперед с трудом, будто бы что-то надломилось внутри, и меня все не отпускали слова Ариса, то, что он проговорил в тот момент, когда опустошал свой шкафчик и складывал свою форму, и перчатки, и широкий пояс цвета хаки, и все старье, что носил, он складывал их медленно и осторожно, словно бы то была не рабочая одежда, грязная, рваная, заляпанная, но вещи, принадлежащие кому-то, кто внезапно умер и оставил все это позади, и кто-то, кто еще жив, должен их собрать, кто-то всегда должен это делать, кто-то всегда должен собирать вещи умерших, потому что вещи, что умершие оставляют позади, — последний канат, и кто-то, кто еще жив, должен, всегда должен отвязать его, этот последний канат, потому что никто из людей не остров, верно, все мы — корабли в этом море.
Те слова Ариса.
Когда тебя выгоняют с работы, все равно, что хребет перешибают.
*
У меня было свое место в порту. Мое собственное, второй дом, покосившаяся деревянная скамейка, там рядом причаливали фуры, чтобы погрузиться на паром до Крита. Там же причаливал и я, вечером, зимой и летом, сидел часами и смотрел на корабли, что входили в порт и покидали его, и на людей, и на машины, и на фуры, что загружались на паромы. Если было что выпить, я пил и пел, одну и ту же песню, всегда одну и ту же песню, всегда Sittin’ on the dock of the bay, Отис — то, что надо, то, что надо для того, кто проводит ночи в порту, на причале, там, где море сливается с сушей, там, где все становится единым и разделенным, где люди только что держали друг друга в объятиях, и вот они уже расстаются, как песок и волны, когда безмятежно и равнодушно, а когда и со страстью и слезами.
Да, даже и трезвым если был, все одно пел эту песню, всегда одну и ту же песню, и расстраивался, что никогда мне не удавалось воспроизвести свист Отиса, ни разу, так я и не смог добиться этого, ни трезвый, ни пьяный, — от ворона лысого голос да от пеликана шипение, как говорил Арис. Если погода была хорошей, я смотрел на закат. Смотрел на солнце и на свет солнца, что освещал все вокруг, на последние его лучи, пока они не исчезали, смотрел на солнечный свет, что медленно скользил по кораблям, по портовым зданиям и по жилым домам, что окружали порт, по людям, что пили кофе на балконах, курили и смотрели телевизор, вели машины и шли, и бежали, чтобы успеть на автобус, он скользил по женщинам, что развешивали белье на террасах, по детям, что прятались за висящими простынями, белыми и цветными, прятались и изображали привидения, и завывали, и пугали своих матерей. Скользил по воробьям и горлицам, они гулили и порхали и пили воду, что сочилась капля за каплей из бойлеров, гревших воду за счет солнечных батарей. И то, что я видел, было куда прекраснее и причиняло глазам куда большую боль, чем то, что я думал, что видел, потому что я думал, что видел пожар. Пожар, что сжигал мир изнутри, без языков пламени и дыма, пожар, что сжигал мир бесшумно и коварно, и жестоко. Арис не верил ни во что из этого, не верил, что птицы пьют воду из бойлеров, не верил, что я видел пожары без пламени и дыма, но как-то в канун Рождества, то было последнее Рождество, когда, как я помню, в порту еще шел снег, тогда я спустился в порт и издалека увидел свою скамейку, погребенную под горой плотного снега, и сказал, что издалека она похожа на гигантское восхитительное курабье или на снеговика, еще не рожденного, еще только ждущего прихода в этот мир, ждущего того, кто сделает его правильным снеговиком, с округлым телом, круглой головой и морковкой вместо носа, — в этот канун Рождества на часть новогодней премии Арис купил мне подарок и отдал, когда мы заканчивали работу. И когда я разорвал подарочную упаковку, — красную блестящую бумагу, по которой ай-василисы неслись в летающих санях, влекомых безрогими оленями, — и открыл коробку, то увидел, что внутри были очки, из тех, что используют при газосварке, пара больших очков с оранжевой защитой по краям и с очень толстыми линзами.
Он схватил меня за плечи, обнял, чмокнул куда-то в районе уха. От него пахло ципуро, сигаретами и работой. Глаза его блестели в ледяном свете дня.
— Это для порта, — сказал он. — Чтоб ты надевал, когда загораются костры, чтобы они не сожгли тебе глаза. Тебе нравится? Примерь. Хорошие, правда? Тебе нравится?
Он крепко держал меня, не позволяя уйти.
— Многая лета. С Рождеством, многая лета. И чтоб никакое зло до нас не добралось.
А затем он сдал назад и притворился, будто держит микрофон, и взглянул на меня, и начал танцевать и петь.
Твои огненные взгляды разбивают меня на куски как снаряды
На куски разбивают меня как снаряды твои огненные взгляды
Вокруг собрались и остальные, что тоже успели подвыпить, и смотрели на нас, и хлопали, и смеялись.
В канун Рождества в офисе, на одном из складов запчастей в Коридаллосе, звучат смех и песни — внутри, а снаружи снег покрывает мир, и мир сияет, белый, холодный и твердый, словно мраморный лунный диск.
*
Поэтому я обратил на нее внимание — в самом начале. Потому что показалось, что волосы ее охватил огонь, и они горят без дыма и пламени. И затем, когда первый шок отступил, как говорится, я надел свои специальные очки, закрепленные на поясе, они всегда были у меня под рукой, и сказал, что она заслуживает того, чтобы сгореть целиком, — у нее, правда, были красивые волосы, пышные и золотистые, окружавшие ее голову как ярко освещенный ореол, — но она заслуживает того, чтобы сгореть целиком, потому что она сидела на деревянной скамейке, в доме моем, на моей собственной деревянной скамейке. Мне от этого стало тошно. Это все ненормально. Все равно, что вернуться домой после работы и обнаружить незнакомку, что непринужденно развалилась на твоем диване. Да даже и одежда ее тоже была далека от нормальной. Июль месяц, а на ней — пальто, черные брюки, ботинки. Я встал в стороне и уставился на нее, пожирая взглядом. Закутанная в пальто, руки в карманах, она сидела, скрестив ноги, и наблюдала за морем, полуприкрыв глаза. И сквозь свои специальные очки я видел, как солнце окрашивает ее волосы в багровый цвет, и видел, как ветер перебирает пряди ее волос, и сказал я, что вижу дерево, ствол которого почернел от пламени, и теперь огонь уже высоко, добрался до самого верха и сжигает его крону, его только что народившиеся листики, его раскидистые ветви. И тут же у меня нашлось для нее прозвание. Я назвал ее госпожой в пальтеце, потому что, если ты даешь имя чему-то неизвестному, и мы все это знаем, если ты даешь имя чему-то неизвестному, твой страх перед неведомым становится меньше. И пусть она не была госпожой, и пусть даже и отдаленного сходства с госпожой не имела, и пусть то, что на ней было надето, было не пальтецом, но обычным пальто, черным и тяжелым, до самых колен. Но пусть будет так. Госпожа в пальтеце.
Потому что мне нужно было дать ей имя. И потому что у нее не было собачки.
*
Когда тебя выгоняют с работы, все равно, что хребет перешибают.
Вначале ничего не чувствуешь, перелом свежий, и ничего не болит. Боль и страх приходят позднее, когда травма вступает в свои права. Когда вспоминаешь об арендной плате, и счетах, и объявлениях в газетах. Обзвоны по утрам, грубые голоса. Тебя опередили, брат. Набери завтра снова. Пришли-ка нам резюме, мы посмотрим, — уже чтоб в грузчики пойти, от тебя резюме требуют. Боль и страх приходят позднее, сказал Арис. Арис, которого вытряхнули на улицу вместе с нами, как окурки из пепельницы, безо всякого «как» и «почему», одним только телефонным звонком. Арис, который ответил, что не знает, что будет делать сегодня вечером, — может, повешусь на ремне, сказал, а может, отправлюсь в Фалиро и утоплюсь. Посмотрим. Я еще не решил. По настроению. Но был бы у меня пистолет, было бы проще. Бах, и упал. Наверняка. Его, беднягу, все это поразило в самое сердце, хотя мы знали, оба знали — и давно, что наш черед не за горами. Вопрос времени, как говорится. «Вас на складах, звин, звин, звин, и головы лазером снесут», — повторял нам один козел из бухгалтерии. Звин, звин, звин, тыкал он пальцем в Ариса, сталкиваясь с ним в коридоре или в буфете. Звин, звин, звин, — и он заливался смехом. И он был прав, подонок, на раз-два нас сожрали, только без лазера обошлось, хватило и телефона. Утром позвонили, в обед вышвырнули на улицу. А затем случилось что-то очень странное. Пока мы брели, Арис остановился выпить воды из фонтанчика, что стоял у самого входа. Июль месяц, далеко за полдень, даже воздух закипал от жары. Но, когда он пустил воду, — питьевой фонтанчик был из тех, что в саду ставят, большой, с краном, направленным вверх, — вода вырвалась вверх, как из-под давления, и ударила Ариса в лицо, так, что он чуть не упал на землю. Никогда такого не видел, честное слово. Его отбросило назад, как от выстрела. Оступился, посмотрел на меня — потерянным взглядом. Мокрый с головы до ног, вода текла с его волос, воротника, по рукам. Он смотрел на меня, безмолвно, но его глаза говорили, говорили, говорили. Пятьдесят два года, так? Сын — в армии, дочь — студентка в Ретимно. У их матери — четырехчасовая смена в «Склавенитисе». Кредитные карты. И теперь мы остались без работы. Пятьдесят два года, так. И что теперь будет? Что нам делать. Ты мне скажешь?
Я подошел к нему, взял за руку, отвел на автобусную остановку. Когда автобус подошел, Арис зашел внутрь, и мы переглянулись через окно. Его губы лишились слов, но глаза там, за стеклом, продолжали твердить свое.
Не знаю, были ли слова у моих глаз, не знаю, сказали ли они Арису хоть что-нибудь.
*
Я сел в дальнем углу причала, на самом краю бетонной платформы, свесив ноги над водой, синей, черной, вишневой водой, с разводами бензина и мусором на поверхности. Взглянул на госпожу в пальтеце. Июль, сорок градусов, пекло, а она завернулась в свое пальто, словно бы находилась в другом времени, другом дне, другом мире. Я устремил взгляд на корабли, и на воду, и на чаек, что пикировали с высоты, тоже глядя на меня своими желтыми глазами убийц. Попытался увидеть все, вдохнуть запахи всего, услышать все, ветер и волны и рокот двигателей, и голоса людей. Не для того, чтобы время быстрее прошло, но чтобы оно не проходило, потому что время не лекарство, время не лечит, и песня о том же говорит, время — худший из всех врачей. Я посмотрел на огромный корабль, «Лиссос», он готов был отплыть и поглощал людей, машины, фуры, исчезавшие в его темном чреве. Повернулся к госпоже в пальтеце, смотревшей на корабль, и проговорил, что она точно не путешествует и пришла сюда не для того, чтобы проводить кого-то, и сказал, что все это совершенно ненормально, — но что было нормальным в тот день? А затем увидел, как с одного из бортов к морю спускают шланг, из которого под давлением вырываются потоки воды — в море, и мои мысли снова вернулись к Арису. Как его отбросило назад, когда его ударил поток воды, как он оступился, внезапно ослабев, как взглянул на меня, когда вода хлестнула по лицу. И я сказал, что он точно не повесится сегодня вечером на своем поясе и не поедет в Фалиро, чтобы утопиться. Сказал, что он точно упадет на кушетку и будет курить, и пить ципуро без аниса, и смотреть телевизор. Потому что он много раз об этом рассказывал. Если тобой завладеет печаль или горе, говорил он, включай телевизор. Лучшее средство ото всего — телевизор, ты вот послушай, что я тебе говорю, уж я-то знаю. Телевизор. Для таких людей, как мы, для бедных людей, другого лекарства нет.
*
Когда корабль отдал швартовы, когда причал опустел, избавившись от портовой полиции, от машин и пассажиров, когда волны перестали исступленно биться о резиновое покрытие причальной стенки, госпожа в пальтеце поднялась с моей скамейки и пошла к краю причала, и села на один из кнехтов. Села, не вынимая руки из карманов и провожая взглядом корабль, исчезавший вдали. Белая кожа, солнце словно бы вовсе не прикасалось к ней. Она сидела там, пока окончательно не растаяли и паром, и дым из его трубы, и белая кипящая пена, что корабли всегда оставляют позади себя, когда уплывают вдаль. Затем встала на колени перед кнехтом и достала из карманов два флакона с краской, с силой встряхнула их и начала красить черное железо кнехта. Увидеть такое — что-то совсем особенное. Особенное, честно. Как она двигала руками со спреем, искусно и изящно, как меняла флаконы, как останавливалась, чтобы что-то подправить, и потом продолжала свою работу, склонившись, безмолвно, полностью поглощенная тем, что делала, — один только раз я увидел, как она подняла голову и смотрела вдаль, вдаль, туда, где исчез корабль.
Закончив, вытерла руки тряпкой, и ее тоже она вытащила из кармана, — кто знает, сколько еще вещей скрывало ее пальто, — и потом встала, и сделала два шага назад, и посмотрела на кнехт, склонив голову к плечу, и вернулась затем на скамейку. Я ждал. Ждал, пока пройдет какое-то время, чтобы не выдать себя. И потом я встал и прошелся по причалу по направлению к кнехту — не спеша, как бы безразлично, глядя на море, приложив руки козырьком к глазам, как бы ожидая корабль, который доставит меня туда, куда я хотел, или, быть может, корабль, что привезет мне того, кого я ждал. Я сказал, что она, должно быть, нарисовала что-то занятное на этом кнехте, но все, что я увидел, подойдя ближе, больше напоминало детский рисунок. Хохочущее желтое лицо с черными глазами и ярко-красными губами. Это точно не было произведением искусства, но я задержался, чтобы его рассмотреть, — и растерялся. Что это было, что значило? Что вообще это может значить — рисовать на кнехте желтого человечка — ни мужчина, ни женщина, — с огромной красной улыбкой. Что это было, что значило. И женщина на скамейке тоже смотрела на разрисованный кнехт, — на меня она не обратила никакого внимания, словно бы меня вовсе здесь не было, хотя я, разумеется, был прямо перед ней, снова надев мои специальные очки с оранжевой защитой по краям и с очень толстыми линзами, — она смотрела, завернувшись в свое пальто, спрятав руки в карманах и позволяя ветерку раздувать ее волосы, которые теперь, когда солнце погасло, утонув за жилыми домами, утратили весь свой блеск и начали темнеть и чернеть как ореол на старой иконе. Все равно, что вернуться домой после работы и обнаружить незнакомку на твоем диване, незнакомку, что смотрит безмолвно на картину, которую нарисовала на стене напротив. И мои мысли снова вернулись к Арису. Если бы он был здесь, точно завязал бы с ней беседу. Наверняка. Он сел бы рядом с ней, и угостил ее сигаретой, и обглодал бы ее своими что да почему, и говорил бы с ней своим спокойным хрипловатым голосом.
Не стоит здесь сидеть, сказал бы он ей в конце концов. Не то это место, чтобы здесь девушка сидела, совсем одна. Иди домой и включи телевизор. Телевизор — это хорошее дело. Телевизор — это лекарство, знаешь ли. Точно. Самое лучшее лекарство. Точно.
*
Спускалась ночь. Какой-то паром вошел в гавань и, маневрируя, прижался кормой к причалу. Пустой, ни людей, ни машин. Когда трап упал на берег, вышел матрос, взял канат и подтянул его к раскрашенному кнехту. Он оцепенел на мгновение, затем наклонился, увидел желтое улыбающееся лицо, засмеялся, покачал головой, и снова засмеялся, и огляделся вокруг, но ничего не увидел, накинул канат на кнехт и вернулся на корабль.
Я ждал. Поднялся, в полутьме я слышал, как бьется о флагшток на корме корабля натянутая веревка. Я бы различил среди тысяч других этот звук. Нет другого такого, как он, столь одинокий, столь меланхоличный, бесконечный стон, жалоба, словно бы пустой флагшток вздыхал, оплакивал свой флаг и восхищался им. И я никогда не говорил о нем Арису, зная, что он не поверил бы мне и ни за что бы не побежал покупать мне пару наушников, как те, что надевают, когда работают с отбойными молотками, с поролоном внутри, они нежно прижимают уши и согревают их, — не побежал бы, и не вручил, и не сказал бы:
— Это для порта. Надевай, если ветер поднимется, чтобы ты не слышал, как жалуется флагшток, и не грустил. Хорошие, правда? Примерь. Хорошие, правда?
*
Теперь уже сильно задувало. Обжигающий ветер, суховей, он приставал к тебе как старые грехи. Я увидел, что женщина поднялась со скамейки и двинулась в сторону кнехта. Она встала на колени и достала из кармана баллончики, — или, может, она достала только один баллончик, не знаю, трудно было разглядеть. Она что-то сделала, и потом поднялась, и застыла без движения, и посмотрела недолго на закутанное во мрак море, и засунула руки в карманы, и завернулась покрепче в пальто, и ушла, почти бегом, повесив голову. Вышла за ворота, перешла улицу, исчезла. Когда я подошел к кнехту, увидел, что она изменила что-то в лице нарисованного человечка. Улыбку. Улыбки больше не было, она погасла. Она погасила красные смеющиеся губы и вместо них провела черную полосу, что сползала книзу, черную жирную полоску, рану, травму. Она погасила улыбку на смеющемся лице, и теперь оно стало печальным и испуганным. Сначала я не понял. Почему она это сделала? Это смеющееся лицо было как утешение. Сидеть одному ночью в порту и смотреть на смеющееся лицо, нарисованное на причальной тумбе, это же верное утешение, — зачем же его разрушать? Однако, когда я сел на скамейку и снова взглянул на рисунок, теперь издалека, тогда увидел. Увидел канат, затянутый вокруг рисунка, увидел, как канат, словно петля, сжимает горло нарисованному человечку и душит его. Поэтому она погасила улыбку и сделала смеющееся лицо печальным. Потому что он задыхался. Потому что вокруг горла его была затянута толстая веревка, и он задыхался.
Я снял свои специальные очки, потер глаза и снова посмотрел.
Что может быть страшнее, чем веревка, что обвивается вокруг твоей шеи. Даже для рисунка, для ненастоящего человечка, — что может быть страшнее. На самом деле — что.
*
Спустилась ночь. Там вдалеке, за выходом из гавани, огни кораблей, что стояли на рейде близ порта, загорались и гасли, трепеща в воздухе и выстраиваясь в длинные прерывистые линии, как будто то были бусины из разорванного колье, что рассыпались в темноте. Я не мог этого увидеть с того места, где стоял, но знал, что так должно быть. Маленькие блестящие бусины, что рассыпались в темноте, — казалось, протяни руку и сможешь их собрать, но это колье разорвалось раз и навсегда, никто не смог бы его починить. Я сел на свою скамейку. Наконец.
Сел, как человек, что полумертвый от усталости вернулся с работы, — ноги вытянуты вперед, глаза закрыты, руки безвольно опущены. Провел ладонью по потрескавшемуся дереву скамейки. Оно было горячим и оцарапало мне кожу. Я вдохнул ее запах. Ладонь пахла солью, солнцем и мазутом. Затем я встал и пошел на край причала и встал на колени перед кнехтом и прикоснулся к его железной поверхности и печальному лицу, что было нарисовано на ней. Оно было грубым на ощупь, грубым и горячим. Я выпрямился и двумя руками схватился за толстый влажный канат. Схватился за удавку, что сжимала горло нарисованному человечку. Схватился двумя руками, крепко вцепившись, и со всей силы попытался снять его с кнехта.
Я боролся с канатом и пел ту же самую песню Sittin’ on the dock of the bay, каждую ночь одну и ту же песню, и сказал, что этой ночью, сегодня, может я и смогу правильно повторить пусть даже один раз, один-единственный раз, свист Отиса. Это не было легко, но я старался изо всех сил. Старался ослабить давление петли. Ослабить давление петли, снять канат с кнехта, чтобы мог сделать вдох тот человек, ненастоящий, нарисованный. Мужчина, женщина, какое это имело значение.
Я бился, чтобы снять удавку с тумбы, вложил все силы, что у меня были, сказал, что должен справиться. Сказал, что надо бы, чтобы и Арис был здесь сегодня, чтобы увидеть и объяснить, было ли что-то хорошее в этом, было ли и это лекарством — срывать канаты с кнехтов, ослаблять удавку на шее, чтобы освободить ненастоящих людей. Чтобы он объяснил мне, было ли и это лекарством для таких людей, как мы, для бедных людей.
Петля не поддавалась, и веревка выскальзывала из рук, царапая их, разбивая их в кровь.
Но я не сдавался, бился изо всех сил, тянул канат из последних сил, что еще оставались.
— Прошу тебя, — повторял я. — Помоги мне, прошу тебя.
Я сражался с петлей, пытаясь снять ее. Изо всех сил, что у меня были.
Был июль. Занималась суббота. Море дышало маленькими разреженными волнами.