Николай Дмитриевич и биороботы Путина
Отрывок из рассказа Романа Сенчина «Тоже история»
В «Редакции Елены Шубиной» выходит сборник малой прозы Романа Сенчина «Нулевые». Каждый текст из этой книги посвящен одному году первого десятилетия XXI века и тому, что он принес «простому человеку». Публикуем отрывок из рассказа «Тоже история», действие которого разворачивается на «Марше несогласных» весенним днем 2007-го.
Роман Сенчин. Нулевые. Проза начала века. Редакция Елены Шубиной, 2021
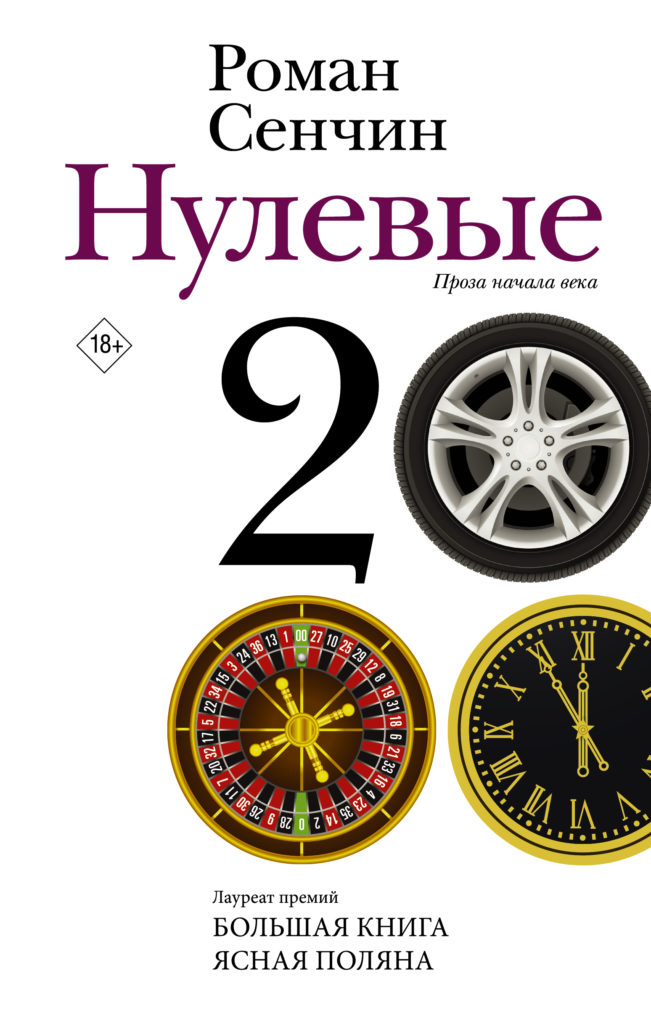 В последние годы Николай Дмитриевич старался обходить всякие митинги, пикеты стороной — чувствовал к их участникам раздражающую брезгливость, как к калекам, которые сидят в переходах, выставив на обозрение свои увечья. Слишком много было в прошлом лозунгов и возмущений, слишком часто видел по телевизору, да и в жизни, нищих и изуродованных, горячо им сострадал. В конце концов хватит.
В последние годы Николай Дмитриевич старался обходить всякие митинги, пикеты стороной — чувствовал к их участникам раздражающую брезгливость, как к калекам, которые сидят в переходах, выставив на обозрение свои увечья. Слишком много было в прошлом лозунгов и возмущений, слишком часто видел по телевизору, да и в жизни, нищих и изуродованных, горячо им сострадал. В конце концов хватит.
Первой мыслью было свернуть в Козицкий, обогнуть Пушкинскую площадь и войти в метро на «Чеховской». Лишних десяток минут. Правда, из-за этого вместо одной пересадки нужно будет сделать две... Эскалаторы вверх-вниз, ожидание поезда, захлопывающиеся двери вагонов... И желание скорее оказаться дома, пообедать и засесть за чтение книги перевесили — Николай Дмитриевич пошел прямо.
На углу Тверской и Пушкинской было спокойно. Люди тихо переговаривались, смотрели в сторону Новопушкинского сквера, где бухала музыка из колонок и развевались государственные флаги. Николай Дмитриевич кого-то, кажется, узнавал из стоящих на углу — в основном пожилые, неважно одетые, с сухими строгими лицами и выразительными глазами, у двоих-троих мужчин, почти уже стариков, жидковатые шкиперские бородки. Эти, или такие же, составляли тысячи на митингах в начале девяностых... Возле стены галереи «Актер» рядок из нескольких крепких старух, тоже словно знакомых по прежним митингам и пикетам. В руках — свернутые бумажки, наверняка самодельные лозунги, что-нибудь вроде непременного «Правительство — в отставку!»
Была и молодежь — симпатичные девушки с фотоаппаратами-мыльницами, десятка два небойцовского вида парней. А в основном толклись на углу журналисты; операторы, как оружие, держали на плечах камеры. У светофорного столба переминался невысокий полненький человек лет сорока, в очках, с окладистой, короткой бородой. Где-то его Николай Дмитриевич тоже видел — кажется, какой-то политик нового поколения... А, ладно, некогда вспоминать.
— Разрешите. — Стал пробираться ко входу в метро. — Разрешите, пожалуйста.
До ступенек под землю оставалось метра два, когда по ним взбежал высокий, в тонкой серой куртке депутат Госдумы Рыжков. На запястье болтался складной зонтик... И тут же за его спиной возникли крупнотелые омоновцы, встали цепью.
«Ну вот», — кольнуло Николая Дмитриевича; он попытался протиснуться между ними:
— Разрешите!
Омоновцы стояли как каменные, невидяще смотрели вперед; тротуар справа тоже был уже перекрыт, даже металлические ограждения появились. Люди с обеих сторон завозмущались.
— Да дайте пройти, в самом деле! — Николай Дмитриевич слегка надавил на плечо одного из крупнотелых и получил не то чтобы толчок, а резкий, короткий, как удар тока, дёрг. Отшатнулся.
— Что это такое?! Мне нужно в метро!
Но взглянул в лицо одного омоновца, другого и понял — его не пропустят. Его просто не слышат. Обернулся. Толпа на углу стала плотнее, Рыжкова облепили журналисты, а он своим мягким, негромким голосом жаловался:
— Вот вы сами видите, что происходит. Подходы к Пушкинской площади перекрыты, передвижение граждан ограничено. На площади проходит акция «Молодой гвардии Единой России», хотя еще полмесяца назад представители «Другой России» подали в мэрию уведомление о проведении на этом месте Марша несогласных. Уведомление было принято, а через несколько дней из мэрии поступил устный ответ, что именно в этот день и час на Пушкинской состоится митинг «Молодой гвардии». Здесь очевидный подлог...
— Каковы требования Марша несогласных? — спросила желтоволосая журналистка — на микрофоне значок «Первого канала», а голос у нее почему-то с акцентом.
— Главное требование одно: вернуть честные, всенародные выборы. Это право гражданам гарантировано конституцией...
Рыжков отвечал, как всегда, как в коридорах Госдумы, внешне спокойно и взвешенно, но глаза были тревожные, губы подрагивали; он явно сдерживался, чтобы не начать говорить резкое, из души...
Когда-то Николай Дмитриевич очень симпатизировал этому, до сих пор молодому и живому, несмотря на большой срок в политике, человеку, слушал его выступления с интересом, вниманием, со многим соглашался. Но годы шли, менялась обстановка в стране, менялись условия, а Рыжков оставался все таким же, говорил то же самое, и явно гордился своим постоянством. Может, и прав он, что отстаивает программу, с которой стал депутатом в начале девяностых, но из-за этого постепенно превратился в одного из тех, кому еще при Николае Втором дали точное и обидное название — думец. Они, эти думцы, благополучно преодолевают все выборы, не выходят за рамки парламентской этики, не лишаются неприкосновенности; они исправно сидят на своих местах в зале заседаний, что-то комментируют после принятия очередного закона, иногда возмущаются, но смысл их выступлений и комментариев, энергия их возмущений уже не достигают сознания людей, да и не хочется уже вникать — надоело... В истории парламентов разных стран Николай Дмитриевич знал много таких «думцев» — старожилов, совершенно закостеневших в своих законодательных баталиях, и, когда за стенами парламента происходило что-то историческое, взрыв, бунт, эти старожилы уже не понимали, что это, почему, зачем. Первыми бежали прочь.
И сейчас он был удивлен, видя Рыжкова здесь, на этом углу, в окружении старух-пикетчиц, полустариков с внешностью профессоров без подработки, худосочных парней в болоньевых куртках, бессильно жалующегося в походные микрофоны и диктофоны репортеров. И снова кольнула тревожная, но и будящая, возвращающая в пятнадцатилетнюю мятежную давность, мысль: «Если даже Рыжков на улице, что-то серьезное...» Да, стоило задержаться, понаблюдать. Попытаться понять.
Вопросы к думцу закончились. Люди молча глядели в сторону Новопушкинского сквера, где звучала рваная современная музыка. Долетали слова: «А в чистом поле системы „Град“! За нами Путин и Сталинград!» Старухи у стены осторожно, воровато раскрыли свои бумажки. На них фломастером и акварелью кривые строки: «Путин, мы тебе не верим!», «Бывали хуже времена, но не было подлей».
— Ну что, Володь, — подошел к Рыжкову тот невысокий, полненький человек с бородой-щетиной, — мне пора. Счастливо.
Думец кивнул:
— Да, Никита.
— Простите, — окружили, словно только сейчас заметили невысокого, журналисты. — Вы Никита Белых? Как вы оцениваете?..
Тот выставил руки:
— Я здесь как частное лицо, поэтому ничего комментировать не могу. — И, ободряюще, но легонько, бережно хлопнув Рыжкова по плечу, пошел в сторону Кремля.
— Через час партия СПС проводит свой митинг на Славянской площади, — стал объяснять Рыжков. — Нам же, вместо Пушкинской площади, мэрия предложила территорию ВВЦ или Тушинское поле. На выбор. Вы представляете, где это?! Мы это иначе как издевательство расценить не можем...
— Унзинн, — покачала головой желтоволосая, и Николай Дмитриевич понял, откуда ее акцент, что это за бело-голубая единица на микрофоне — немецкое телевидение, информационный канал.
...Ровно в двенадцать на крыше одного из ближайших зданий, того, где внизу располагался «Макдоналдс», появился человечек с флагом. Развернул, стал размахивать. Николай Дмитриевич присмотрелся, поморщился — флаг был очень похож на нацистский: красное полотнище с белым кругом по центру, только вместо свастики внутри круга — черные серп и молот... Такой флаг, он знал, изобрели радикалы-хулиганы из лимоновской партии; к этим ребятам, в основном еще совсем юнцам, Николай Дмитриевич относился с жалостью — лезут на рожон, кидаются яйцами, врываются в здание администрации президента, получают за это приличные сроки, — хотя если бы дали волю, оттаскал бы за уши, выпорол за один только этот символ... Но сейчас, увидев вражеский для себя, омерзительный флаг, Николай Дмитриевич почувствовал прилив сил, чуть ли не радость — словно в комнату с закупоренными окнами и дверьми, где уже нечем дышать, вдруг ворвался поток свежего воздуха.
И вокруг оживились, зааплодировали, закричали «ура!». Николай Дмитриевич оглянулся на Рыжкова — даже он, сугубый демократ, сдержанно, но улыбался. Тоже, наверное, почувствовал воздух.
А на окружающих площадь перекрестках происходило перемещение бойцов всевозможных правоохранительных подразделений. Омоновцы в голубовато-серых бушлатах, поджарые парни в черной униформе, кивая на которых люди тихо и тревожно говорили: «ЧОП»; были и вэвэшники в зеленых камуфляжах и пепельных бронежилетах; вокруг Новопушкинского сквера вытянулась шеренга из пацанов-срочников. Милиционеров в обычной форме — синие бушлаты, шапки-ушанки — почти не видно... Проезжали мощные «Уралы» с будками и зарешеченными окнами, трещали рации. Атмосфера армейских учений. И в то же время обыденно двигались по Тверской и по Страстному автомобили, работали светофоры, на огромном экране возле здания «Известий» транслировали рекламные ролики... На тротуарах же переминались группки людей, которых сторожили другие люди, в шлемах, с дубинками.
Бессобытийное стояние утомило Николая Дмитриевича, начал донимать голод. Да, утром лишь выпил кофе, листая свежий номер «Вопросов истории» (выписывал журнал уже тридцать шесть лет), а потом поехал в магазин. Купил книгу, зашел в кофейню. Еще чашка кофе... Впереди предстоял большой, плодотворный день, который грозит превратиться в пустой и нервный, и, главное, эта нервность может перекинуться на будущие дни. И тогда — прощай рабочий настрой, необходимая размеренность, отстраненность от окружающего... Домой, домой, в кабинет.
Вход в метро был по-прежнему заперт омоновцами, тротуар в сторону Страстного бульвара — тоже. Единственная возможность попробовать выбраться — двигаться вверх по Тверской, к Елисеевскому гастроному.
— Внимание! — восклицание Рыжкова. — Представители прессы, подойдите ко мне! Пропустите журналистов... — Люди с микрофонами, диктофонами, камерами, один даже со стремянкой, окружили депутата. — Я хочу сделать официальное заявление. Все здесь?.. Мне только что звонил Гарри Каспаров*Признан властями РФ иноагентом.. Он и еще несколько человек задержаны на той стороне Тверской улицы. Их везут в УВД, какой, пока неизвестно...
— Везут, — подтвердил оператор на стремянке, — вон Гарри Кимовича везут!
По Тверской медленно проехал автобус «ПАЗ». Николай Дмитриевич заметил какие-то лица в окнах. Люди из толпы махали им, показывали викторию.
— Владимир Александрович, — снова стали уговаривать Рыжкова, — пойдемте куда-нибудь! Чего здесь ждать?!
И он каким-то плачущим голосом отвечал:
— Вы видите, что происходит? Я вас на дубинки не поведу. Будем стоять до часу, а потом разойдемся. Мы и так уже многое сделали...
Николай Дмитриевич усмехнулся: да уж, многое. Немая горстка без флагов, без транспарантов, если не считать нескольких листов формата А3... Так же почти, он слышал, выражают теперь протест в Белоруссии — собираются где-нибудь на тротуаре и стоят или молча, без лозунгов, ходят по городу. И в Германии году в тридцать пятом антифашисты таким образом показывали, что они еще существуют; и у нас троцкисты в конце двадцатых. И кто знал, как будет дальше...
Но на противоположном углу что-то начало происходить — темная масса загудела, заколыхалась, ее тут же стали сжимать, сдавливать голубовато-серые в шлемах. А люди на этой стороне закричали:
— Позор! Позор!
Часть омоновцев, огибая автомобили, побежала на крик, уплотняла цепь вдоль бордюра... Почему-то снова появился «Пазик» с задержанными, нарушая правила дорожного движения сделал круг по площади... Николай Дмитриевич озираясь, чувствуя вполне вероятную и близкую опасность, взглянул на крышу «Макдоналдса». Флага уже не было, там ходили какие-то люди. Зато на соседней крыше — издательства «Известий» — колыхались бело-сине-красные флаги и висел транспарант-растяжка. Николай Дмитриевич прищурился, разобрал надпись: «Привет маршу валютных проституток!» И оттуда, с крыши, полетели листовки, запылали факелы. Благодаря им и остальные на углу заметили растяжку, прочитали и засвистели, крики «позор!» переросли в хлесткое, дружное скандирование: «По-зор! По-зор!»
Да, обстановка накалялась, хотя Николай Дмитриевич не представлял, что способны сделать зажатые каменными стенами ОМОНа несколько десятков человек; депутат Рыжков то и дело поглядывал на часы, видимо торопя стрелки добраться до часу дня, когда можно будет объявить мероприятие закрытым.
Но ситуация изменилась неожиданно и стремительно. Со стороны Елисеевского на Николая Дмитриевича обрушилась волна темных, низеньких людей, а за ними катилась новая — голубовато-серая, высокая. И зазвучали сочные хлопки — пух! пух!
Еще не увидев, откуда происходят хлопки, вместе с остальными метнувшись в сторону поворота на Страстной, Николай Дмитриевич вспомнил этот звук — так хлопают резиновые дубинки, опускаясь на согнутые спины. Было время, он часто слышал такие хлопки на московских улицах... И уже после этого короткого воспоминания-вспышки, семеня в крошечной, но плотной массе по тротуару, он, обернувшись, увидел скрючившихся парней, старушек, женщин, мужчин, прикрывающих головы, жмущихся к стене галереи «Актер», к столбам... Люди визжали и охали, кто-то по-командирски басил: «Палками, палками не работаем!». Но хлопки продолжались, и вдалеке зазвучал гимн России.
Николай Дмитриевич лез вместе со всеми в узкий проход между домом и перекрытым спуском в метро, спина вспотела и горела в ожидании удара, в голове пульсировало: «Ну вот! Ну вот!». За мгновение из солидного, уважаемого человека, из профессора и доктора исторических наук, он превратился в одно из животных, которых куда-то погнали... Спасаясь от дубинок, люди перескакивали через поваленные металлические ограждения. Старушка, маленькая и сухая, запнулась, упала, бессильно ойкнула. Николай Дмитриевич приостановился, чтобы помочь ей подняться и тут же получил по левой лопатке. Боли не почувствовал, но туловище противно, как не его, дернулось, кепка слетела с головы. И во рту стало горько.
— Да что ж это?! — стал оборачиваться, получил еще. А потом его крепко взяли под мышки, потащили.
— Вытесняем, вытесняем! — командовали сзади.
— Заполняем! Сюда давай, — руководили спереди.
Николая Дмитриевича вели к стоящим вдоль тротуара «Уралам». Двери серых будок открыты, возле них мужчины в камуфляжах с каменными лицами и прозрачными, неживыми глазами. Как из фильмов про биороботов... Разговаривать, объяснять, ругаться бесполезно.
Он глянул вдоль Страстного бульвара. Повсюду крупнотелые хватали низеньких и темных, а те уворачивались, отбегали, отбивались криком: «Позор!». На асфальте валялись бумажки-транспарантики, книжечки конституции и почему-то много роз. Депутат Рыжков, ссутулившись, медленно двигался прочь...
— Пошел, — без злобы велел один из конвоиров; Николая Дмитриевича приподняли и забросили внутрь будки.