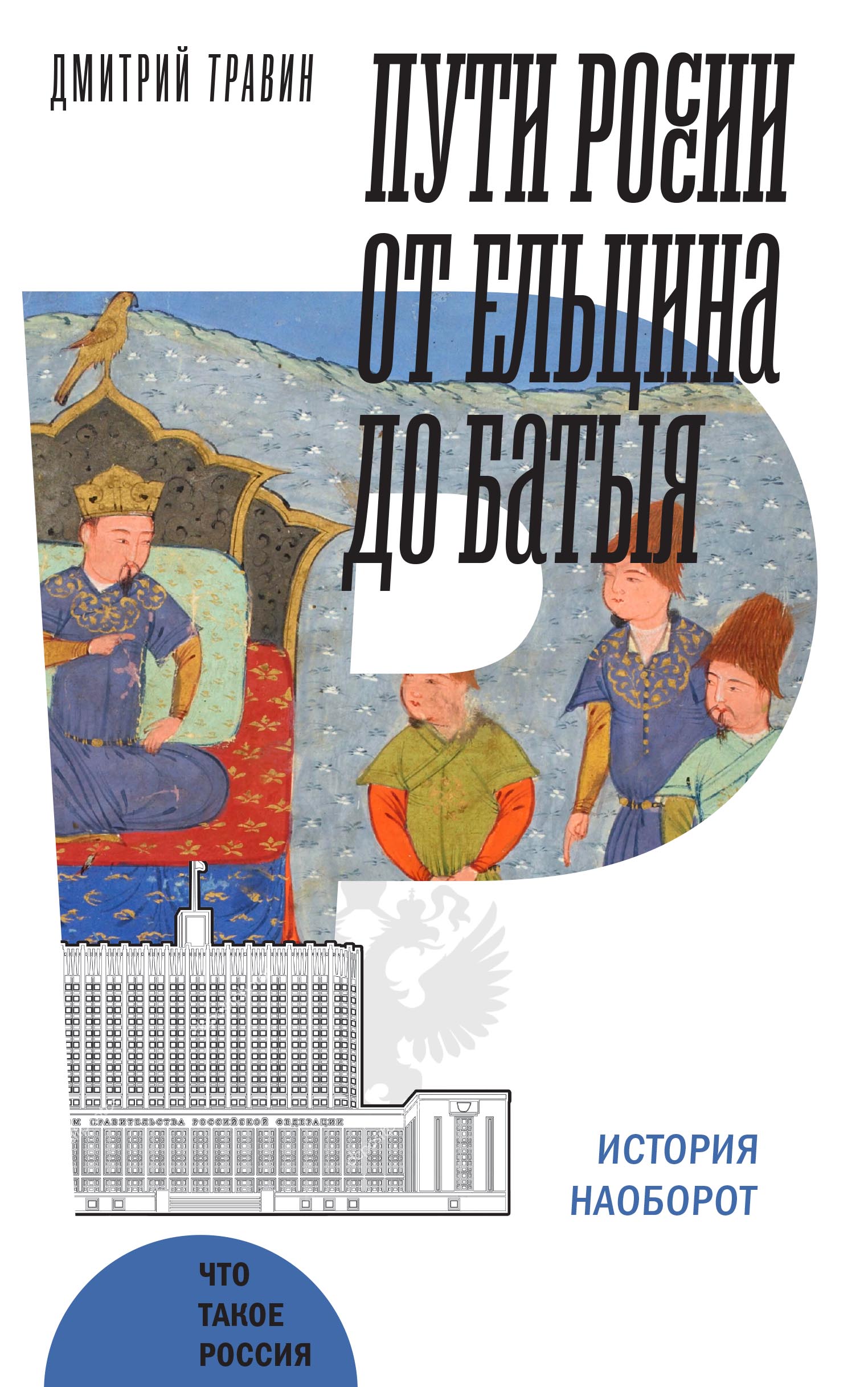Неуважение к царству
Фрагмент книги Дмитрия Травина «Пути России от Ельцина до Батыя»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Дмитрий Травин. Пути России от Ельцина до Батыя: история наоборот. М.: Новое литературное обозрение, 2025. Содержание
|
АЛЬТЕРНАТИВА ВТОРАЯ. ПЕРЕСТРАИВАНИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ
Перестройка не была предопределена комплексом обстоятельств, сложившихся в середине 1980-х годов. Конечно, рано или поздно советские элиты должны были начать поиск приемлемой модели своего существования, но если бы этот поиск не начал Горбачев, то, возможно, лет через тридцать — тридцать пять после его избрания генсеком народ все так же славил бы, стоя в длинных, унылых очередях, «мудрую миролюбивую политику нашего дорогого Михаила Сергеевича», как славил перед этим «мудрую миролюбивую политику нашего дорогого Леонида Ильича».
Скорее всего, очереди за это время удлинились бы, а структурные перекосы в экономике сильно увеличились. Нараставшая в предперестроечные времена гонка вооружений с Америкой еще сильнее подрывала возможности развития гражданского сектора народного хозяйства. А уменьшение нефтегазовых доходов в 1980–1990-х снизило бы и без того невысокий уровень жизни советских людей. Но мы понимаем сегодня, что революции не происходят от низкого уровня жизни, что для социального взрыва должен сложиться целый комплекс обстоятельств и что правящие элиты при наличии эффективного репрессивного аппарата могут долго отказываться от поиска эффективного аппарата экономического. Более того, мы понимаем сегодня, что даже ослабевшая ядерная держава может продолжать жить рядом со значительно более успешными странами и те не станут предпринимать открытой агрессии, поскольку риски ее осуществления слишком велики. В общем, Советский Союз способен был еще долго длить свое существование без всяких попыток изменения экономической или политической системы. Снижение цен на нефть и повышение американских расходов на ведение каких-нибудь «звездных войн» всерьез повышали вероятность того, что советское руководство встрепенется и начнет искать новые пути, но вовсе не предопределяли такие радикальные перемены, какие осуществил Горбачев.
Перемены эти во многом вытекали из мировоззренческих особенностей поколения шестидесятников, сменивших у руля брежневское военное поколение. Шестидесятники не были реформаторами по определению и вполне могли бы сохранять старую систему, но они не вполне понимали, зачем она существует в таком диковатом виде. Ради чего надо затягивать пояса, если мы не строим коммунизм, не собираемся воевать со всем миром ради мировой революции и не чувствуем угрозы со стороны соседей, радостно согласившихся на мирное сосуществование? Как отмечал мудрый поэт-шестидесятник Булат Окуджава,
Вселенский опыт говорит,
Что погибают царства
Не оттого, что труден быт
Или страшны мытарства.
А погибают оттого
(И тем больней, чем дольше),
Что люди царства своего
Не уважают больше.
Шестидесятники плохо понимали, за что следует уважать свое советское «царство» в его текущем состоянии. Но они готовы были уважать Советский Союз, если бы его удалось привести в порядок в соответствии то ли со старыми ленинскими нормами, то ли с новыми гуманистическими ценностями, распространявшимися по всему миру в ХХ столетии. Таким образом, вероятность того, что шестидесятник у власти начнет поиск лучшей жизни, была велика. Хотя, окажись этот шестидесятник менее умным, образованным и энергичным человеком, чем Горбачев, советский народ мог бы еще долго ждать какой-нибудь перестройки.
Как мы видели, четкого плана у горбачевской перестройки не было. Стремясь к прогрессивным переменам, Горбачев мог зарулить в одну сторону, а мог — в другую. Это зависело уже не от тех установок, с которыми он начинал свое правление, а от целого комплекса обстоятельств: от настроя его соратников, от политической борьбы в верхах, от результатов предшествующего этапа правления и неудач уже осуществленных реформ, от международной обстановки, от того, как пробуждались народные массы в СССР и кто брал на себя руководство этим пробуждением. Деятельность Горбачева по мере осложнения ситуации все больше превращалась в политическое маневрирование, а не в конструктивную работу по совершенствованию социализма. И на каждом этапе этого маневрирования существовало множество развилок, способных завести страну в одну или другую сторону.
Экономические реформы можно было заморозить, как косыгинские, а не углублять, разрабатывая рыночные проекты преобразований. Консерваторы могли, воспользовавшись каким-нибудь случаем, снять с должности генсека Горбачева, как в свое время сняли Хрущева, а не уходить поодиночке с ключевых политических постов под давлением маневрировавшего Михаила Сергеевича. Августовский путч 1991 года мог вообще не состояться, если бы не активность главы КГБ Владимира Крючкова, а мог завершиться победой путчистов, если бы не миролюбивая позиция министра обороны Дмитрия Язова, отказавшегося устраивать кровавую баню в центре Москвы. Наконец, Советский Союз мог не развалиться по итогам поражения путчистов, а сохраниться в той или иной форме. В общем, возможных вариантов развития событий было чрезвычайно много, и наш нынешний исторический путь стал следствием как давления объективных обстоятельств, так и сочетания множества случайностей.
МИФ ВТОРОЙ. О ВСЕСИЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ
Чем дальше уходит в прошлое советская эпоха и чем активнее идеологизируется сегодняшняя жизнь, тем больше разрастается миф о всесильной коммунистической идеологии и о том, как пленила она людей, попавших под ее воздействие в предперестроечные годы. Однако на самом деле идеология тогда была слабой, деградирующей, и под ее воздействие попадали обычно лишь самые отсталые слои населения. Нам трудно будет объяснить общественный подъем эпохи перестройки и тот искренний отклик, который находила у миллионов людей идеология перестроечная, если мы сочтем, будто все советские граждане были жестко индоктринированы коммунистическими догмами. Предпринимаемые иногда попытки увидеть преемственность между идеологией 1970-х и современными лозунгами сильно упрощают историю. Они сбрасывают с нашего исторического пути вторую половину 1980-х, а также эпоху 1990-х, когда мы искали принципиально новые идеологические опоры, поскольку старые оказались ненадежны.
Советская идеология возвеличивала созданное Лениным революционное движение и формировала символику (революционные памятники, красные пионерские галстуки, значки с портретом вождя, разнообразные сказания об Ильиче, демонстрации 1 мая и 7 ноября), которая должна была помогать людям идентифицироваться с Красным Октябрем. В современной российской идеологии Октябрь вместе со всей революционной символикой сдан в утиль, а революционность считается признаком опасного вольнодумства. Главными героями становятся цари (Пётр I, Екатерина II, Николай II) или революционеры, ставшие «царями» (Сталин).
Советская идеология была антикапиталистической и Запад критиковала как оплот буржуазного образа жизни, тогда как мировой пролетариат считался прогрессивным. Сегодня у нас построен капитализм. Образцами для подражания становятся люди, заработавшие много денег и продвинувшиеся по карьерной лестнице, тогда как разрушителей уютного буржуазного мира подвергают наказаниям. Противостояние с Западом основано не на классовом подходе, а на национальном. Недружественная нам часть мира критикуется не за установившийся там социальный строй, а именно за недружественное по отношению к Российскому государству поведение.
Советский режим являлся атеистическим. Действующих храмов оставалось мало, недействующие были откровенно изгажены. Про старорусских святых знали лишь те, кто специально разыскивал информацию в книгах. В школах могли сказать что-то позитивное даже про царей и полководцев прошлого, но не про церковных деятелей и духовных подвижников. Сегодня у нас ситуация прямо противоположная. За оскорбление чувств верующих наказывают, за оскорбление атеистических чувств — нет. Руководители страны демонстративно религиозны, даже если в советское время формально придерживались атеистических норм ради карьерных целей.
Нынешнюю идеологию можно принять за своеобразную «реинкарнацию» советского духа, только если все идеологизированные общества сваливать в одну кучу и противопоставлять свободному миру, якобы вообще неидеологизированному. На самом деле старая советская идеология почила в бозе, а через какое-то время родилась идеология новая, которая в чем-то на старую, естественно, похожа (как похожи друг на друга любые идеологии, ставящие своей задачей формировать скрепы, сплачивающие разнородные человеческие массы ради поставленных вождями целей), но во многом непохожа.
Почему же советская идеология умерла, хотя обладала ресурсами, позволявшими ставить памятники, вести пропаганду в СМИ и учебных заведениях, контролировать всякое проявление свободной мысли? Дело в том, что большие ресурсы позволяют проникнуть в умы людей, но не в сердца. Человек понимает, как надо себя вести, и становится конформистом, предпочитающим не нарушать установленные нормы, говорить лишь дозволенное, но пропускать при этом мимо ушей все, что утверждает пропаганда. Идеология, хорошо работавшая в эпоху веры в построение коммунизма, перестала быть эффективной, когда вера эта умерла, но в сердцах людей постепенно формировалась вера иного рода. Кто-то стремился верить в Бога, кто-то — в гуманистические ценности, а кто-то сочетал возрождение традиционной религиозности с заимствованием идей, характерных для свободного мира. Даже сами коммунистические пропагандисты, как правило, уже не верили в то, что должны были проповедовать, но делали положенное, поскольку были конформистами.
Советский опыт показывает нам, что если все как один клянутся в верности вождям и той идеологии, которую они считают правильной, то не стоит делать вывод, будто общество целиком индоктринировано. Со сменой политических условий чрезвычайно быстро может измениться ментальность. Люди будут преследовать цели, соответствующие их рациональным интересам. Но при этом какой-то части общества (возможно, очень большой) понадобятся мифы. Мифологизация позволяет тешить то иррациональное, что в нас сидит. Человек хочет не только гнаться за выгодным лично ему, но и чувствовать себя частью сообщества, ставящего великие цели. Ради этих целей он готов «покупать» идеологию. Но лишь ту, которая ему реально подходит. Просроченный, дурно пахнущий и небрежно упакованный товар он будет брать лишь в том случае, если ему его навязывают.
Фото в начале материала: Ronald Reagan Presidential Library