Нерешительный вызов монархизму
Фрагмент коллективной монографии «Русский республиканизм от Средневековья до конца XX века»
Res Publica: Русский республиканизм от Средневековья до конца XX века. Коллективная монография под редакцией Кирилла Соловьева. М.: Новое литературное обозрение, 2021. Содержание
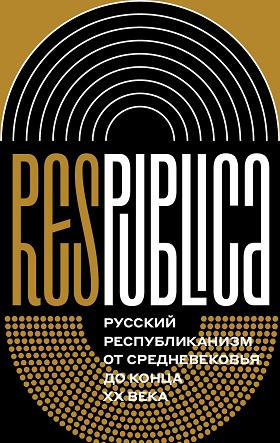 Республиканизм как политический язык
Республиканизм как политический язык
Первая концепция, которую мы хотели рассмотреть, интерпретирует республиканскую доктрину в контексте имперской политической речи XVIII в. В наиболее репрезентативном виде она сформулирована в работах К. Д. Бугрова, в частности в его докторской диссертации «Формирование идей республиканизма в российской общественно-политической мысли XVIII века» и в главе, написанной им (совместно с М. А. Киселевым) для настоящего издания. Главный и, с нашей точки зрения, убедительный тезис Бугрова состоит в следующем: доминирующим политическим языком в Российской империи сначала XVIII в. до первой четверти XIX в. включительно служил язык «провиденциального» или «моралистского» «монархизма», основанный на идее божественной легитимации власти русских самодержцев. Моралистский монархизм «опирался на неизменный характер общего блага... <...> само признание неизменного характера общего блага и личной добродетели, находящихся к тому же в гармонии между собой, означало одновременно признание существования арбитра, способного направить социум к общему благу и оценить степень добродетели отдельного индивида. Таким арбитром и выступал монарх...». Этот принцип, как указывает Бугров, противоречил республиканской идее, которая подразумевала, что «добродетель генерируется социальными условиями», а «конфликт» служит «неотъемлемой частью политической жизни». Попытки дворянства укрепить свои позиции в обществе и системе управления никоим образом не противоречили политической системе моралистского монархизма: «Дворянский статус был связан с волей монарха-демиурга, героя и святого, движущего свою страну по пути вестернизации и преобразований».
Монарх оставался источником всякой политической инициативы, что стало серьезным препятствием для развития республиканской теории в России. Вероятно, можно говорить, что в отечественной политической традиции актуальным оставался классический республиканизм, который вполне уживался с монархической формой правления (в том случае, если суверен заботился об общем благе подданных). Однако доминирование языка провиденциального монархизма и радикально иной взгляд на природу гражданской добродетели заставляют предположить, что в целом республиканизм как политический язык — по крайней мере до определенного момента — оставался в Российской империи в тени. Разумеется, сами классические республиканские тексты, итальянские или английские, подданными русских монархов читались и активно обсуждались. Здесь следует сделать оговорку, прямо следующую из разысканий Бугрова: сам по себе факт циркуляции республиканских идей и идиом не гарантирует наличия республиканизма как разработанной и легитимной политической речи. Подлинными «республиканцами», согласно Бугрову, были А. Н. Радищев и Я. Б. Княжнин, однако речь идет лишь о двух теоретиках, хотя и важных, но все же не способствовавших утверждению республиканского языка как одного из общепризнанных политических идиом (в том числе и по цензурным соображениям).
Тем не менее Бугров обнаруживает традицию, в которой активно разрабатывался республиканский лексикон. Речь идет о сочинениях, посвященных истории древнерусских республик. Именно благодаря новгородской тематике в русский политический обиход входят «греко-римские исторические концепты». Наличие автохтонной традиции здесь принципиально, поскольку любовь к отечеству в республиканской традиции предполагает любовь к «своему собственному» отечеству с особенной, только «нам» присущей исторической традицией. Новгородская (и псковская) республика (в тот момент, когда присущий этим городам политический строй стал опознаваться как «республиканский», а это произошло в последней трети XVIII в.) давала возможность «одомашнить» античные идеалы республиканской жизни, сделать их «своими»: «Поскольку интеллектуальный инструментарий для анализа республики и республиканизма в московской традиции отсутствовал, пробелы в понимании Новгорода как республики восполнялись импортом риторических стратегий и объяснительных моделей» с Запада. Перед нами пример республиканской традиции, «изобретенной» по греко-римскому образцу.
Для концепции Бугрова существенно, что историографические полемики не имели прямого отношения к дискуссиям о природе самодержавной власти. Временнáя дистанция, отделявшая древний Новгород от России рубежа XVIII-XIX вв., гарантировала относительную свободу политического воображения: «...признание республиканского характера древней новгородской государственности не было само по себе идеологическим актом, отражающим политические взгляды историков и направленным на критику монархии. А республиканские атрибуты, приписывавшиеся Новгороду, имели целью не подрыв самодержавия и пропаганду „вольности”, но построение адекватной объяснительной модели, понятной кругам элиты».
Если Карамзин в «Истории государства Российского» «растворил республиканизм в провиденциальной идее единства», то декабристы, в свою очередь, иначе смотрели на новгородский сюжет. Республиканская тематика стала частью политической речи, выдержанной в романтическом ключе (как возвращение к утраченной традиции, которая воссоздавалась за счет интерпретации новгородской тематики в контексте греко-римской гражданственности). Конечно, Новгород представлял из себя политическую альтернативу «монархическому деспотизму», однако «сам по себе подобный взгляд вовсе не означал симпатий к республике и не вел к тому, чтобы считать республику пригодной для России», в особенности республику, чья история осталась в отдаленном прошлом.
В какой мере вывод Бугрова релевантен для России первой половины XIX столетия? Здесь, как кажется, существенно вернуться к вопросу о том, что представляет из себя политический язык. Дж. Г. А. Покок в работе «The State of the Art» отмечает, что одним из критериев, позволяющих убедиться в том, что мы действительно имеем дело с полноценной и автономной политической идиомой, является частотность ее употребления в разных контекстах (т. е. применительно к разным политическим ситуациям). Этот тезис позволит чуть иначе взглянуть на репутацию новгородской республики в строе историко-политической образности первой половины XIX в.
Начиная с 1800-х гг. восприятие русской истории претерпевает определенную трансформацию. В александровскую эпоху исторические сюжеты стремительно сближаются с политическими. Исторические трагедии, повести и рассказы становятся важнейшим элементом идеологической рефлексии о природе русской монархии и ее основных качествах. Актуализация прошлого связана со стремительным распространением доктрины национализма, ставившей перед публицистами начала XIX в. целый ряд проблем. Во-первых, требовалось определить, каковы, собственно, главные черты русского национального характера. Сделать это было не так просто по той причине, что дворяне и крестьяне, говорившие на разных языках и, по сути, жившие в разных культурных пространствах, с трудом соединялись в единое политическое тело. Во-вторых, следовало «изобрести» концептуальную схему, позволявшую адаптировать националистические идеи к языку русского «провиденциального монархизма». Важнейшим стимулом, заставившим отечественных политических теоретиков и саму императорскую власть активно разрабатывать концепцию национального избранничества, стала внешнеполитическая угроза: сначала ожидание масштабной войны с Наполеоном на территории России в 1806–1807 гг., а затем и сам поход Великой армии к Москве в 1812 г.
Если мы посмотрим, какие именно исторические сюжеты привлекали внимание русской читающей и театральной публики в первые сорок лет XIX в., то обнаружим, что в целом новгородская тема находилась на периферии дискуссии об «особом пути» России. Главным историческим периодом, отражавшим провиденциальную судьбу русского народа и русской монархии, стало Смутное время. Выбор в пользу событий начала XVII в. оказался продиктован и символической значимостью начала царствующей династии, и наполненной провиденциальным смыслом параллелью между 1612-м и 1812 г. О центральной роли сюжетов из истории Смутного времени для русского театра начала XIX в. убедительно пишет А. Л. Зорин, об их значимости для русского исторического романа 1830-х гг. свидетельствуют библиографические разыскания Д. Ребеккини. Согласно подсчетам итальянского исследователя, иерархия эпох в рамках жанра (с 1829-го по 1839 г.) распределяется следующим образом: война 1812 г. — 15 романов, Смута и приход к власти династии Романовых — 10, «период княжеств, монгольского ига и усиления Москвы» — 7, время Петра Великого — 7, Киевская Русь — 6, царствования Ивана III и Ивана IV — 6, время Екатерины Великой — 6, тексты об истории Малороссии — 6, царствование Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны — 5, Новгородская и Псковская республики — 5, романы об истории Сибири — 4, тексты, посвященные истории Кавказа, — 4, прочие — 11. Таким образом, в целом «республиканские» сюжеты из древнерусской старины и особые добродетели республиканских героев не вызывали большого интереса у русских авторов (и читателей) в тот период развития русской литературы, когда жанр исторического романа обрел огромную популярность. Во многом это было связано с антиреспубликанской спецификой николаевской идеологии, в особенности после событий 14 декабря 1825 г. и Польского восстания 1831 г. Впрочем, нам важно констатировать саму тенденцию предпочитать республиканским сюжетам из русской истории сюжеты монархические.
Кроме того, увлечение античной греко-римской образностью оказалось свойственно не только «республиканским» мыслителям. Так, патриотический (в сугубо монархическом смысле) журнал С. Н. Глинки «Русский вестник», выходивший в свет с 1808 г., был наполнен историями о подвигах русских героев, своим поведением весьма недвусмысленно копировавших образцы античной гражданской добродетели (одним из них стал, например, крестьянин Иван Сусанин). Далее, одно из самых популярных сочинений о республиканском Новгороде в первой половине XIX в. — повесть Карамзина «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» (1803) — при всей сложности своего политического сюжета не содержало однозначных похвал республиканскому прошлому Руси, но, наоборот, осмысляло древнюю историю в свете конфликта между «героической» вольностью и «мудрым» самодержавием как «палладиумом» и политической судьбой России.
Наконец, русская историография означенного периода весьма умеренно интересовалась новгородской тематикой — за первую половину столетия, по сути, вышло лишь две большие работы, целиком посвященные истории древнерусских республик: труд Е. А. Болховитинова «Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода» (1808) и диссертация С. М. Соловьева «Об отношении Новгорода к великим князьям» (1845). В обзорных сочинениях по русской истории М. П. Погодина, Н. А. Полевого или Н. Г. Устрялова республиканские прецеденты, разумеется, интерпретировались, однако они не играли в повествовании значимой роли. Западники и славянофилы в целом также обращали внимание скорее на другие периоды отечественной истории. Торжественные празднования тысячелетия России в 1862 г., как показывает О. Е. Майорова, свидетельствовали о том, что официальный монархический дискурс полностью «поглотил» новгородский сюжет, сделав его частью непротиворечивой концепции русской национальной власти. История новгородской республики, безусловно, интересовала декабристов, однако мы не должны упускать из вида тот факт, что в данном случае речь идет об относительно небольшой группе публицистов и литераторов. Удельный вес их интеллектуальной продукции в сравнении с другими текстами историко-политической тематики (если мы берем в расчет первую половину XIX в.) окажется не столь внушительным.
Где же тогда искать полноценный республиканский дискурс в России? Как показывают разыскания Бугрова и Д. В. Тимофеева, попытки конституционных реформ в России начала XIX столетия также едва ли могут служить материалом по истории отечественной республиканской доктрины. Как отмечает Бугров, необходимо разделять республиканизм и конституционализм: «под конституционализмом можно понимать поиски оптимальной организации властного аппарата, тогда как под республиканизмом мы понимаем теорию, провозглашающую народный суверенитет при соответствующих гражданских доблестях». В этой интерпретации политическая речь, защищающая закон как фундаментальную ценность и основной регулятор отношений в социуме, отнюдь не всегда является республиканской. Особенно это релевантно для первой трети XIX в., когда сама власть предпринимала усилия по реформированию русского законодательства и по введению юридических норм, регулировавших базовые социальные и политические процессы в России (речь идет о проектах самого начала александровского царствования и реформистской активности М. М. Сперанского). По словам А. Н. Медушевского, «после Французской революции и особенно в условиях Реставрации конституционализм становится общепризнанной формой легитимации всякой власти, в том числе и монархической». В итоге попытки законодательной регламентации власти «сверху» служат свидетельством стремления не ограничить самодержавие законом, но, напротив, укрепить его, добавить монархии новый тип легитимации, основанный на праве. Конституционализм способствовал консолидации императорской власти, между тем как республиканизм «должен был представлять собой решительный вызов монархизму». Важно добавить, что историки, считающие реформистскую деятельность первой половины александровского царствования нацеленной на уменьшение (а не на консолидацию) абсолютной власти императора, также убеждены: речь не шла о введении в России элементов республиканского правления. С. В. Мироненко так определяет преобразования М. М. Сперанского: «Этот новый порядок дел был, по существу, не чем иным, как ограничением самодержавия и созданием в России монархии буржуазного типа».
Не менее существенно, что ключевые понятия либерального лексикона, разрабатывавшие смысловые оттенки понятия «свобода», стали частью официальной политической речи александровской эпохи, прежде всего известной по журнальным публикациям того времени. Речь идет о необходимости введения в России «коренного закона» (аналога «конституции», очищенного от революционных коннотаций), о поддержке предпринимательства и свободе экономической деятельности, о гарантиях гражданских прав и пр. Знаменателен, в частности, тот факт, что в отечественных журналах печатались переводы европейских конституций первой четверти XIX в. По наблюдениям Тимофеева, республиканские конституции печатались с сокращениями, королевские конституции приводились почти в полном объеме и сопровождались подробными комментариями. Исследователь пишет: «...при отборе статей основное внимание было обращено на то, каким образом в текстах республиканских конституций закреплены принципы разделения властей, равенства граждан перед законом, неприкосновенности собственности, свободы вероисповедания, а также порядок внесения по мере необходимости изменений в текст конституции. Особое значение придавалось принципу выборности в процессе формирования высших органов государственной власти». К аналогичным выводам приходит Н. Д. Потапова: республиканская форма правления достаточно часто обсуждалась в русской прессе начала XIX столетия.
Из вышесказанного можно сделать несколько выводов. Прежде всего, интерпретация «конституции» как «основополагающего законодательного акта», как замечает Тимофеев, «не только не подразумевала ограничения власти императора, но напротив — всячески подчеркивала необходимость высочайшего утверждения всех ее положений». Более того, закон мыслился в качестве «инструмента систематизации российского законодательства, ограничения „самовластья” фаворитов и произвола чиновников». Декабристская политическая программа в целом ряде пунктов (например, в вопросе гражданских прав) не слишком отличалась от того, что сама императорская власть предлагала в качестве предмета обсуждения русской образованной публике.
Впрочем, гражданские права могла устанавливать в Российской империи лишь императорская власть, а народ или нация не являлись источником политического суверенитета. Речь шла о дискурсивных практиках, а не собственно о государственных преобразованиях. При всем сходстве отдельных политических деклараций декабристов и лояльных власти авторов проблема заключалась в том, что выражавшиеся на бумаге принципы не становились частью политической реальности. Реформы Сперанского в полной мере реализованы не были, «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева так и осталась без дальнейшего движения, польская конституция 1815 г., несмотря на отдельные (и, добавим, весьма туманные) утверждения Александра I, не подразумевала скорого переноса ее политических принципов на практику управления в остальной части Российской империи, а «самовластье фаворитов» в последние годы александровского царствования никуда не исчезло, прочно ассоциируясь с действиями А. А. Аракчеева. Более того, как пишет Медушевский, «реализация проектов Сперанского и проведение в жизнь идей Уставной грамоты привело бы в лучшем случае к созданию более рационализированной бюрократической администрации, уменьшению личной власти монарха и, возможно, ограничению произвола, но отнюдь не к созданию конституционной монархии по образцу Великобритании, Франции или даже Германии, к которой русский монархический строй был более близок». Осуществление политической программы декабристов требовало более решительных действий. Вопрос заключался не только в том, как должна быть устроена государственная власть в России, но и в том, каким образом могут быть проведены реформы в ситуации пассивности императорской власти.
В итоге нам представляются убедительными два тезиса представителей первой из названных нами концепций русского республиканизма начала XIX в. Во-первых, язык «провиденциального монархизма» в политической практике явно превосходил по влиянию республиканскую идиому; во-вторых, попытки конституционных преобразований начала столетия не только адаптировали в России новую политическую культуру, но и делали это, не оспаривая легитимность самодержавного правления, а лишь укрепляя ее или, лучше сказать, реформулируя ее основные принципы на других политических языках. Однако предложенная Бугровым «новгородская» интерпретация русского республиканизма требует, как нам кажется, дополнительной аргументации. Возможно, здесь речь идет лишь об одном из многочисленных примеров интериоризации республиканского мышления в России, а не о его главном изводе.