Непьющий русский
Отрывок из книги Алексея Конакова «Евгений Харитонов: Поэтика подполья»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Алексей Конаков. Евгений Харитонов. Поэтика подполья. М.: Новое издательство, 2022. Содержание
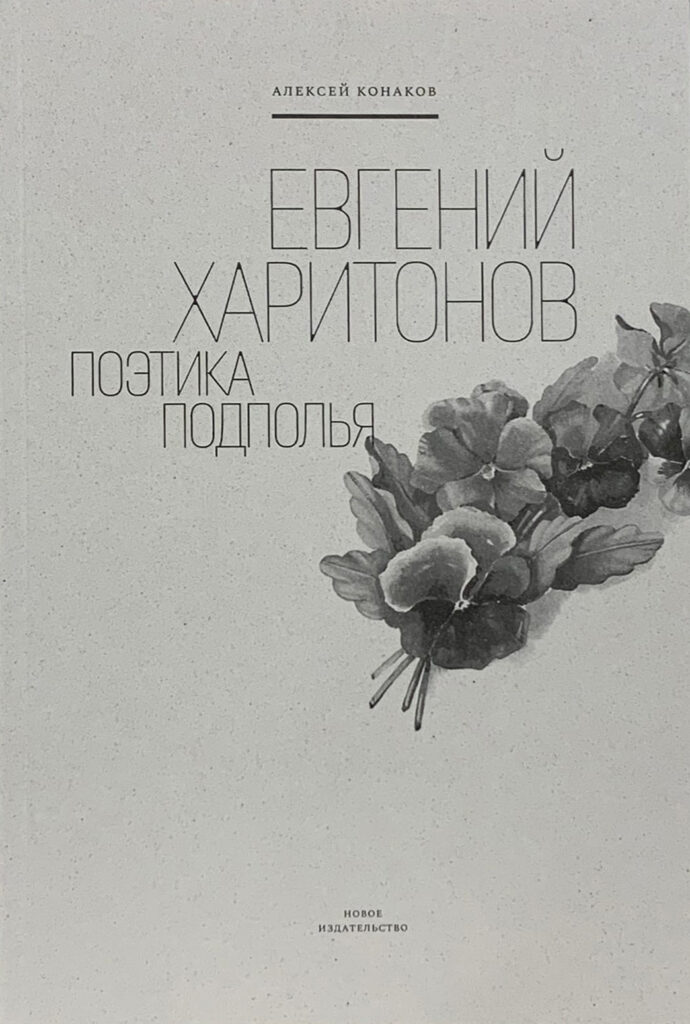 Харитонов-писатель известен как автор всего одной книги, названной «Под домашним арестом»; книги, собственноручно им составленной и напечатанной, распространявшейся в советском самиздате и оказавшей колоссальное влияние на современную русскую литературу.
Харитонов-писатель известен как автор всего одной книги, названной «Под домашним арестом»; книги, собственноручно им составленной и напечатанной, распространявшейся в советском самиздате и оказавшей колоссальное влияние на современную русскую литературу.
В состав «Под домашним арестом» входит двадцать одно произведение, среди которых есть и рассказы, и циклы верлибров, и оперные арии, и роман в стихах, и два манифеста, и пять уникальных текстов на стыке поэзии и прозы, жанр которых напоминает не то «Опавшие листья» Василия Розанова, не то «Записные книжки» Антона Чехова. Все вместе это образует своеобразный канон, который Харитонов лично создал и утвердил: «Не все ЛУЧШЕЕ, а все НУЖНОЕ из того, что писал он долгие годы, собрал он под одной обложкой, издав сам себя в четырех экземплярах», — вспоминает Евгений Попов. Несомненно, очень важную роль сыграло то обстоятельство, что Харитонов закончил «Под домашним арестом» за несколько месяцев до собственной смерти, весной 1981 года, — в связи с чем книгу практически сразу стали интерпретировать как воплощение «последней воли» автора, как продуманное «подведение итогов» многолетней литературной работы: «Он умер, дописав то, что хотел», «чудо какое-то — он умер только тогда, когда собрал, сделал свою книгу с названием „Под домашним арестом“, где много размышлений о смерти, все последние месяцы он спешил, ею только и занимался», «он выполнил свою задачу, и результатом, итогом его жизни стала эта книга, полное собрание сочинений Харитонова».
Подобный телеологизм красив, но может вводить в заблуждение.
Харитонов не собирался умирать после составления «Под домашним арестом», не собирался бросать литературные занятия; и он вообще вряд ли рассматривал напечатанную книгу как действительно связное художественное высказывание. Вероятнее всего, цель «Под домашним арестом» была не столько концептуальной, сколько логистической — надежно и быстро переправить тексты на Запад для их возможной публикации в издательстве Карла Проффера Ardis. И потому в «Под домашним арестом» не следует искать какого-либо содержательного или стилистического единства — вошедшие в книгу произведения объединены лишь «авторедакторским» жестом (решением Харитонова включить в собрание ту или иную вещь) и медиалогической практикой (тексты напечатаны подряд, на пишущей машинке, и переплетены в книжку). Собственно, до создания «Под домашним арестом» сам Харитонов четко делил основной корпус своих работ на три части: «Из того, что написал в последние 11 лет, я собрал три [рукописные] книги: 1. Духовка. Вильбоа и другие стихи. Жизнеспособный младенец. Один такой, другой другой. По канве Рустама. Алеша Сережа. Сцены. Поэма. Жилец написал заявление. А., Р., я. Покупка спирографа. Роман в стихах. 2. Роман. 3. Слезы об убитом и задушенном. Непьющий русский. Рассказ одного мальчика: „Как я стал таким“. Слезы на цветах. Мечты и Звуки, стихи». В машинопись «Под домашним арестом» войдут все эти «три книги» — и еще три произведения («В холодном высшем смысле», «Листовка», «Непечатные писатели»), сочиненные чуть позже.
И можно заметить, что вся первая половина «Под домашним арестом» (от «Духовки» до «Романа в стихах», 1969–1978) — довольно аморфная в концептуальном и стилистическом отношении масса, из которой, с течением времени, могло бы образоваться практически все что угодно. Ключевыми (решительно отделяющими указанные тексты от написанного Харитоновым ранее) здесь были лишь два решения автора: 1) использовать авангардистскую технику письма и 2) исследовать проблематику гомосексуальности в Советском Союзе. В остальном творческое движение Харитонова кажется совершенно произвольным. Автор создает и вязкую прозу («Алеша Сережа»), и лаконичные стихи (цикл верлибров «Вильбоа»); пробует и протяженные («Роман в стихах»), и малые («Жилец написал заявление») формы; уходит то в откровенный сюрреализм («Один такой, другой другой»), то в тонкий психологический реализм («Духовка»). Эти стилистические поиски интересны сами по себе; важны они и для понимания последующих текстов — ибо на пространствах первой половины «Под домашним арестом» было найдено некоторое количество формальных решений, успешно использовавшихся автором в дальнейшем.
И тем не менее — настоящий, великий Харитонов начинается только во второй половине «Под домашним арестом».
Вот описание Харитоновым своего стиля, сделанное в 1981 году (в письме к Василию Аксенову):
«Здравствуйте, уважаемый Василий Павлович! Я собрал книгу и хотел бы ее кому-нибудь предложить вот в таком виде. Представляю себе только репринт. Ни один наборщик не воспроизведет точно всех искажений, зачеркиваний, пропусков, опечаток, а только добавит своих.
И, я уверен, рукописность, машинописность — образ такой книги и такого рода писательства. Тогда многое очевидно (в буквальном смысле) в ее интонации, в содержании. Оно в самом процессе думания и писания, как человек что-то все время начинает писать, сбивается, берется снова, а вот что-то закруглилось и похоже на вещь; субъект в его речевых реакциях, фатально привязанный к своей „карме“ и в ней находящий художеств, моментами с удовольствием вырывающийся в „реакционность“ — когда выходит на идейный предмет разговора — ну, вот как жителям Острова Крым нравится пафос Империи (пока с ней реально не столкнутся) — ведь этот „я“ тоже житель островка уединения и реально не ввязан в общественную жизнь, не испытывает ее кабаньего давления, а когда испытывает, то гневается, как гимназист; этот „я“ не дозирует гомосексуальных описаний, он не Олби, не Болдуин, не Теннесси Уильямс, не связан с законами, пусть даже все предусматривающими, литературного рынка, не знает обхождения с читателем, он келейный, из подполья; и в этом образ».
Множество «искажений, зачеркиваний, пропусков, опечаток»; «человек что-то все время начинает писать, сбивается, берется снова». Ничего этого (так же как и «пафоса Империи» и действительно «не дозированных» «гомосексуальных описаний») мы не отыщем в текстах из первой половины «Под домашним арестом». Названные Харитоновым приметы стиля характерны лишь для нескольких его поздних произведений; очевидно, именно с этими поздними произведениями Харитонов отождествляет всю свою литературную работу в момент подготовки письма Василию Аксенову.
Произведений этих немного — всего пять вещей, написанных Харитоновым в последние три года его жизни (1979–1981): «Слезы об убитом и задушенном», «Непьющий русский», «Роман», «Слезы на цветах», «В холодном высшем смысле». Но именно в них являет себя читателю действительно выдающийся автор — изобретатель удивительной стилистики, отражающей противоречия эпохи позднего социализма, мастер уникальной интонации, вмещающей восторг и ужас бытия в советском государстве, «человек уединенного слова», решивший, наконец (спустя полтора десятилетия колебаний), заниматься только литературой. Названные вещи позднего Харитонова, — по аналогии с «великим пятикнижием» позднего Достоевского, — можно было бы условно обозначить как «великое пятичастие». К «великому пятичастию» примыкают еще три небольших текста — «Рассказ одного мальчика», «Листовка», «Непечатные писатели» (сочиненные в тот же период времени и выдержанные в сходной манере, они более всего напоминают фрагменты, то ли случайно отколовшиеся, то ли специально не включенные в какое-то из пяти «главных» произведений).
Таким образом, наше дальнейшее исследование будет в основном сосредоточено именно на фигуре позднего Харитонова и на текстах его «великого пятичастия».
Одним из важнейших вопросов, требующих предварительного обсуждения при чтении харитоновской прозы в целом и «великого пятичастия» в особенности, является вопрос отношения между писателем Харитоновым и его героем; проблема залога — если использовать термины Жерара Женетта, — которая «состоит в выяснении того, есть ли у повествователя возможность применять первое лицо для обозначения одного из своих персонажей». И следует отметить, что в начале книги «Под домашним арестом» Харитонов, опять же, не придерживается какой-либо единой стратегии при решении этого вопроса.
В «Один такой, другой другой» («Жизнеспособном младенце», «Жилец написал заявление») повествователь смотрит на события со стороны, никогда не употребляя первое лицо: «В мастерскую по ремонту автомобилей пришел клиент поменять на своей машине помятую заднюю часть. Сильный рабочий раскрутил для проверки колеса, они откинули другого, кто там работал, физически слабого рабочего, но не настолько, чтобы расшибить». В «Духовке» («Алеше Сереже», «А., Р., я»), напротив, повествователь поручает говорить «я» главному персонажу: «Я вида не показал, там посидели немного, он сразу хотел назад, я предложил посушиться, последние метры я с большим трудом, вылезли, надо прийти в себя, дальше с разговором неплохо — есть гитара, а я хочу научиться и запомнить песни. Он показал бой и аккорды». Более того, главный персонаж «Духовки» очень похож на реального Харитонова — действие происходит в 1969 году, ему (как и Харитонову) 28 лет, они оба интересуются красивыми мальчиками и так далее.
Желание «слиться» с персонажем выводят иногда из практики лирической поэзии, которую писал Харитонов; отстраненный взгляд на героев связывают с режиссерским опытом Харитонова. Но удивительнее всего то, что — несмотря на выраженность обеих этих тенденций — литературные современники Харитонова обычно отмечали только одну из них. Еще при жизни за Харитоновым утвердилась репутация писателя, стремящегося устранять зазор между автором и героем: «Внятность, открытость письма были так оглушительны, что не возникало никаких сомнений в личном характере переживаний», — говорит Михаил Айзенберг, «Харитонов же в общем-то весь „вычитывается“ из текста», — отмечает Дмитрий Пригов, «поколение воспринимало Харитонова как бы „слипшимся“ со своим текстом», — подытоживает Владимир Сорокин. Вследствие такого убеждения более поздние читатели начнут интерпретировать работу Харитонова как развитие чуть ли не шестидесятнических концепций «искренности в литературе»: «В творчестве Харитонова все-таки заложены те механизмы, которые заложены и в основе аксеновского поколения (или направления) в литературе», «Обнаружению форм сексуальной и социальной ненормативности служат такие способы организации дискурса, как автобиографичность, исповедальность, тотальное совпадение авторской позиции с позицией героя, инфантилизм, эгоцентризм и т. д.». В этих наблюдениях много верного, однако, говоря об «исповедальности», полезно вспоминать замечание Поля де Мана: «Исповедоваться — значит преодолевать вину и стыд во имя истины, что предполагает эпистемологическое использование языка». И как раз такое использование языка менее всего интересовало Харитонова, всецело сосредоточенного на поэтической функции «сияющих сверкающих слов», на плетении «дивных потаенных узоров», на неутилитарной красоте своих «художеств». При чтении харитоновских текстов важно понимать, что их создатель никогда не «исповедуется», но именно «сочиняет», а видимое отсутствие дистанции между автором и героем есть не что иное, как намеренный (и во многом критический, отстраняющий) эффект формы. «В произведениях искусства форма является тем, посредством чего они занимают критическую позицию по отношению к самим себе», — как утверждал в «Эстетической теории» Теодор Адорно.
И одно из главных приключений литературной формы, случающееся на страницах сборника «Под домашним арестом», заключается в том, что к концу 1970-х годов Харитонов внезапно отказывается от первой, детально разработанной версии автодиегезиса (совпадения повествователя и главного персонажа) — выразительные примеры которого дают рассказы вроде «А., Р., я» и «Алеша Сережа»: «Всё действует на Серёжу как я хотел. Когда я укладывался спать. Алёша постелил ему как исправный слуга, мы с Алёшей улеглись и я попросил ещё Алёшу зайти к Серёже поцеловать от меня и пожелать спокойной ночи. Если бы я сам милостиво подошёл к Серёже с поцелуем, он, возможно не упустил взять верх повернуть наоборот — как будто это опять я люблю, а ему ни к чему. Но я не сам вас поцелую, мой друг, достаточно через посыльного; и видите, как Алёша мне послушен, всё как скажу; и мне не жаль уделить от себя, подарить вам поцелуй такого Алёши».
Что же не устраивает Харитонова в таком способе говорить «я»?
Возможно, как раз то, что отождествление автора и героя оказывается недостаточно эффективным. И основной преградой, мешающей Харитонову еще теснее соединить их, выступает здесь сама литературность харитоновских произведений. Все же тексты, написанные до «великого пятичастия», довольно легко опознаются именно как художественные; они слишком связные, слишком гладкие, слишком мастерские — что и позволяет читателю без большого труда отделять биографического автора от говорящего «я» персонажа. «При всей его психологической проницательности и литературном мастерстве мы чувствуем, что это слишком стильно, чтобы быть подлинным», — как говорил по другому поводу Ян Уотт. Для Харитонова же «мастерство» было словом почти ругательным: «Он хочет представить вас специалистом. Дескать, мастерство, форма. В области такой-то. Но вы наоборот хотите сказать что нет никакой такой области».
Результатом решения этой проблемы и станет необыкновенная стилистика позднего Харитонова. Продолжая тонкую игру в «исповедальность», Харитонов делает новый, радикальный шаг. С 1979 года он почти полностью отказывается от связного сюжета, от единой формы произведения и от любых примет «мастерства» («описывать этого как Пруст не стану»). Вполне «литературные» (действительно напоминавшие Пруста), хорошо продуманные повествования сменяются чередой неряшливых (как бы «непосредственных») записей, своего рода «квази-дневником». И именно жанр «квази-дневника» влечет за собой появление фирменных харитоновских «искажений, зачеркиваний, пропусков, опечаток» в тексте — тщательно продуманной семиотики «личного» и «спонтанного» «письма для себя». Не будет большим преувеличением сказать, что великий писатель Харитонов рождается вместе с рождением своего «квази-дневника». Это Харитонов, ищущий, по словам Дмитрия Пригова, «разрешения современных литературно-языковых проблем на предельно откровенном, рискованно откровенном уровне и материале личной жизни», шокирующий читателей своей радикальной открытостью и подчеркнутым, демонстративным нежеланием хоть как-то разводить «первичного» («natura non creata, quae creat») и «вторичного» («natura creata, quae creat») (в терминологии позднего Михаила Бахтина) авторов.
Но вот вопрос: а почему Харитонов так нескоро пришел к стилю «квази-дневникового» письма? Почему он не сделал этого — довольно очевидного — хода ранее? Разве жанр «личных заметок» не является лежащим на поверхности решением, когда вы хотите достичь «эффекта искренности»? Вероятно, здесь играли свою роль Уголовный кодекс РСФСР вкупе со специфическим содержанием харитоновской прозы — в условиях установленного законом преследования «мужеложства» стилизованные под личный дневник произведения, полные гомосексуальных описаний от первого лица запросто могли оказаться автодоносом (грозящим, при неблагоприятном стечении обстоятельств, лишением свободы на срок до пяти или даже до восьми лет). Соответственно, требовались глубокий расчет и — либо незаурядная смелость, либо некое внешнее воздействие (Событие), позволившее Харитонову отважиться на подобный тип письма.
И такое Событие в самом деле имело место.
Здесь мы (при всем скепсисе по отношению к традиционным литературно-биографическим штудиям) приходим к признанию значения харитоновской биографии для понимания его произведений — увы, внезапное рождение стиля позднего Харитонова практически никак не выводится из имманентной логики развития текстов, но зато очевидно коррелирует с некими жизненными обстоятельствами автора в 1978 году.
Жанр «квази-дневника», стремление отождествлять «первичного» и «вторичного» авторов, отталкивание письма от конкретных событий, намеренное насыщение произведений реальными происшествиями и документами (письма, заявления и пр.) — все это заставляет сделать простой, но важный вывод: в случае писателя Харитонова решение сугубо филологических задач (прояснение устройства тех или иных харитоновских текстов) оказывается почти невозможным без предварительной реконструкции его биографии. И что любопытно, харитоновская биография по большей части связана вовсе не с литературой — но с театром (и с кинематографом). Поэтому «квази-дневниковые» откровения, намеки и сокращения, характерные для текстов «великого пятичастия», кажутся темными и непонятными не только современному читателю — точно так же темны и непонятны они были и для литературных знакомых Харитонова. Что за «Слава из ЦСКА»? Кто такие «Макака и Раечка»? А «В.» и «С.»? Этого не знаем мы; но этого не знали и Дмитрий Пригов, и Михаил Айзенберг, и Евгений Сабуров, которым Харитонов читал свои произведения на различных собраниях и вечерах. Таким образом, даже безотносительно гомосексуальной темы, тексты Харитонова открывали советскому литературному андеграунду новый и загадочный континент — мир столичной театральной богемы с ее случайными знакомствами, интимными дружбами, бурными ссорами, грязными сплетнями, странными играми и так далее. Именно театральные студии и самодеятельные кружки, популярные актеры и знаменитые режиссеры, коллеги из ВГИКа, друзья из ГИТИСа, поклонники из Щукинского училища составляют основное «содержание» харитоновской прозы; содержание, которое автор умело обрабатывает, препарирует — и предъявляет в кругах знакомых литераторов. Многочисленные «тела театров» используются Харитоновым как «ресурс» для создания произведений, успешно распространяемых потом по «сетям литературы». Но как раз поэтому детальный разговор о «великом пятичастии» позднего Харитонова — литератора образца 1979–1981 годов, общающегося с Евгением Поповым, Василием Аксеновым и Беллой Ахмадулиной (Харитонов в «сетях литературы»), — влечет за собой необходимость описывать биографию Харитонова начиная как минимум с эпохи ВГИКа (1958–1972), когда была заведена огромная часть его театральных знакомств (Харитонов в «телах театров»), включая Людмилу Марченко, Геннадия Бортникова, Владимира Высоцкого и других. И не только ВГИК — в текстах Харитонова мы найдем отсылки и к далекому новосибирскому (новокузнецкому) детству, и к южным гастролям Экспериментального театра пантомимы (Эктемим) в разгар оттепели, и к работе в ДК «Москворечье» во второй половине 1970-х.
Политический, экономический и социальный контексты литературы никогда не могут быть отменены; в случае писателя и поэта, как отмечал Адорно, «собственная манера и формальный язык должны спонтанно реагировать на ситуацию; спонтанная реакция как норма отношения к действительности характеризует постоянную парадоксальность искусства». Возможно, искусство позднего Харитонова тоже следует рассматривать в качестве записанного ряда «спонтанных реакций» на самые разные (как значительные, так и ничтожные) события и происшествия, связанные с существованием в историческую эпоху «развитого социализма». В это странное время Харитонов все больше прятался в слова — охотно рассуждая о жизни «на кончике пера», о жизни, «прибывшей в расположение букв», о жизни, безжалостно сведенной к операциям литературного производства: «меня будут любить как певицу когда она поёт о любви и все влюблены в неё за то как поёт, а любит она только петь». И сейчас нам понятно, что слова были единственной настоящей страстью Харитонова. Но, чтобы понять логику этой страсти, чтобы описать результаты ее работы, чтобы увидеть изменение текстов под действием социальных сил, чтобы оценить влияние окружающего мира на узоры «уединенного слова» — нам придется попеременно обращаться то к «литературному стилю», то к «жизненному пути» Харитонова.
Это попеременное обращение определяет всю дальнейшую структуру книги.
Мы рассмотрим три основных «пласта» харитоновской жизни («тела театров», «сети литературы», «домашний арест») и три оригинальные стилистические стратегии, изобретенные Харитоновым («миниатюризация», «провинцификация», «транспарентизация»), преследуя три цели: дать общий очерк биографии Харитонова, проследить формальные мутации его текстов, ухватить текучие смыслы нескольких важных для него слов. Возможно, в итоге у нас получится подойти к разгадке той тайны, которой до сих пор остается литературное творчество Харитонова — поэта, писателя, узоротворца.