Непонимание и ничегонепонимание
Из книги Бориса Романова об Александре Блоке и Евгении Книпович
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Борис Романов. Черный агат. Е. Ф. К., Александр Блок и другие. Повествование в комментариях и письмах. СПб.: Пушкинский Дом, 2024. Содержание
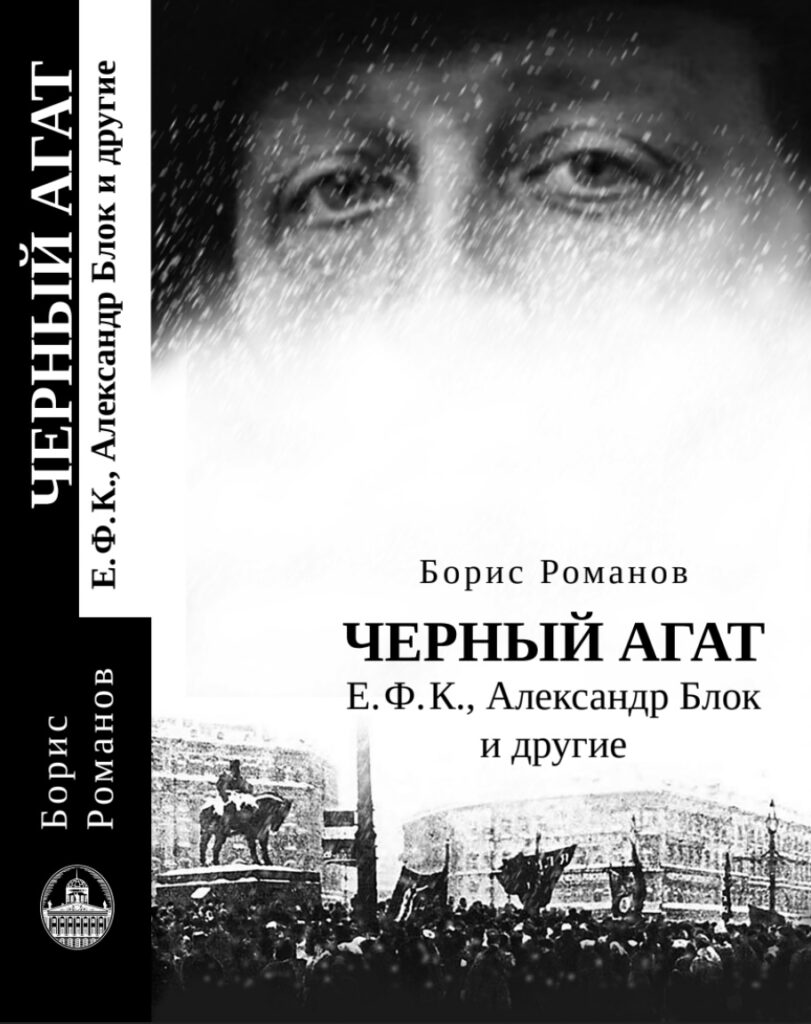 Через три месяца после смерти Блока в издательстве «Картонный домик» вышел сборник «Об Александре Блоке». Провожая гроб поэта с Офицерской до Смоленского кладбища, вспоминал издатель, «мне пришла в голову мысль издать сборник памяти Блока. Прежде чем все разошлись, я поговорил с Виктором Максимовичем Жирмунским, с Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, с Юрием Николаевичем Тыняновым, с Юрием Верховским».
Через три месяца после смерти Блока в издательстве «Картонный домик» вышел сборник «Об Александре Блоке». Провожая гроб поэта с Офицерской до Смоленского кладбища, вспоминал издатель, «мне пришла в голову мысль издать сборник памяти Блока. Прежде чем все разошлись, я поговорил с Виктором Максимовичем Жирмунским, с Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, с Юрием Николаевичем Тыняновым, с Юрием Верховским».
Последняя из близких Блоку в послереволюционные годы современниц, шедшая за его гробом, Евгения Федоровна Книпович через шесть с лишком десятилетий выпустила книгу под тем же названием. Через год, в 1988-м, девяностолетняя Книпович умерла.
Ее воспоминания об Александре Блоке удивляют с первых страниц уверенностью, что она «умнее» Блока. Е. Ф. К. (так чаще всего Книпович обозначена в записных книжках Блока, так, для краткости, станем ее именовать дальше) даже объяснила: «Сейчас очень легко быть „умнее“ Блока, потому что он действительно не знал революционной теории и не верил в ее значение...». Утверждение не только из времен, когда Е. Ф. К. проникалась «единственно научной» теорией. Не она одна рассуждала об «уме» Блока. Ее соратник по работе в Ассоциации по изучению творчества Александра Блока Виктор Гольцев в статье «Александр Блок как литературный критик» утверждал: «Блок в весьма малой степени был приспособлен к последовательному и систематическому мышлению». Вероятно, это отголосок суждений Андрея Белого, к которому Гольцев в ту пору наезжал в Кучино: «Блок откровенно не любил философии; откровенно не понимал ничего в ней; я уважал его за откровенный отказ от отвлеченностей...»
Так считал не один Белый. Сразу после смерти Блока Зинаида Гиппиус рассуждала: «Своеобразность Блока мешает определить его обычными словами. Сказать, что он был умен, так же неверно, как вопиюще неверно сказать, что он был глуп». Георгий Чулков заявлял: «Блок никогда не был способен к прочным и твердо очерченным идейным настроениям».
Идеологи противоположных воззрений сходились на том, что Блок мало что понимал. Гиппиус даже употребила тяжеловесное «ничегонепонимание». Самоуверенные обвинения писателей в непонимании того или этого — традиция, зародившаяся до победы единомыслия в отдельно взятой стране. А советские критики повторяли не раз и на разные лады, что Александр Блок «слишком плохо понимал революцию в ее действительном смысле и ее движущих силах» .
В революционной непримиримости тот, кто встретил грозовой вихрь по-иному, чем уверовавший в единственную (партийную, и не важно какой из партий) точку зрения, все другие суждения объяснял непониманием. Александр Бенуа в день смерти Блока, вспоминая и размышляя, писал: «Это был человек хорошей души, но не большого ума. Революция его загубила. Он не осилил ее». И добавлял, уточняя: «...он был вообще по природе более авгур и оракул, нежели мыслитель. Процесс слагания в символы в его мозгу шел бесспорно быстрее, нежели логический процесс. Ему больше всего хотелось, зналось, виделось, чувствовалось, нежели он этого хотел, знал, видел, чувствовал. При попытках осознать и формулировать, он почти всегда пасовал и, во всяком случае, эта работа давалась ему с величайшим трудом и с мучительными усилиями рассудка. Из всего этого, как следствие, следует вывести, что он был божьей милостью подлинный поэт». В характеристике этой немало верного. Хотя Бенуа, возможно, мешала «тугость речи» поэта, о которой он упоминает. Впрочем, слишком разного склада были они — поэт и художник.
В 1919 году Блок говорил о себе похожее: «Я не преклоняюсь перед тем, что есть, и не приветствую того, что есть. <…> Художник не преклоняется, а только видит <…> Я, как художник, не говорю ни да, ни нет, я — глаза, я — смотрю. Свое да или свое нет скажет тот, кто будет больше, чем художник».
Судили высказывания Блока с безаппеляционностью те, кто не принимал язык поэта, видимо считая, что они «больше, чем художник». Зинаида Гиппиус еще в 1907 году уничижительно отзывалась о блоковской критике: «...мысли Блока — это мухи, беспомощно мечущиеся».
Однако также не веривший в единственно верную теорию Пришвин в дневнике писал: «...русские люди большого разума — Толстой, Блок...», противопоставляя «большому разуму» «малый обезьяний».
Тот же Андрей Белый говорил, что в Блоке «чувствовался большой конкретный ум».
Виктор Шкловский через полвека вспоминал о разговорах с поэтом: «У меня было впечатление от Блока, что он глупый, но, когда он говорил об определенных вещах, он был очень умен». Там же Шкловский говорит, что Блок его спросил: «... почему вы все понимаете?» Это не похвала.
Юрий Анненков в поминальной заметке «Смерть Блока» написал: «...домашний, комнатный, не книжный Блок был не менее мудр, велик и прекрасен, чем в стихах». О мудрости Блока писала близко его знавшая актриса Веригина, между тем вспоминая: «Андрей Белый знакомил меня с марксизмом.<...> Александр Александрович тут мало что знал. Я даже хвасталась перед ним тем, что прочла первый том „Капитала“, а он мне на это говорил с особой интонацией: „Какая вы образованная, Валентина Петровна, а я не читал“».
В пятидесятых Георгий Адамович написал, что в Блоке «была скорее мудрость, чем ум...»
«Непонимание» Блока — отказ от готовых выводов, умозрений, партийных теорий и вер. И конечно, сознательный выбор другого ума. Он отличал «малый разум» от «большого», который чувствовал в себе далеко не всегда. Это сознательный отказ от рассудочности, прежде всего политической. В июле 1917-го Блок написал в дневнике: «Я никогда не возьму в руки власть, я никогда не пойду в партию, никогда не сделаю выбор, мне нечем гордиться, я ничего не понимаю». Все понимали люди «малого разума», уверенно делавшие выбор, не раз менявшие точки зрения. То же отвечал Ремизов на обвинения в большевизме: «Да ведь большевик-то марксист прежде всего уверен, что знает, что и как нужно, чтобы устроить на земле человека. А я в этих делах ни в чем не уверен и ничего не знаю; я только чувствую...»
Еще в 1928 году Е. Ф. К. спорила с такими признаниями Блока, уверяя, что они преувеличены, что «Блок понимал многое и с каждым днем понимал все больше». Она имела в виду понимание смысла большевистской революции. Но уже тогда, встав в ряды советских критиков, стала твердить и о «тонком», «очень невещественном» яде, отравлявшем Блока. А затвердив марксистско- ленинские идеологические «отвлеченности», ловко ими оперировала. Но высказывания ее видоизменялись вместе со временем. К концу жизни она писала: «Блок по природе своей человек исторического мышления, первоначальной формой которого была чуткость к самому движению истории, проявившемуся даже в раннем творчестве».
Блоковед Станислав Стефанович Лесневский рассказывал, и не мне одному, как, гуляя с Е. Ф. К. по переделкинским улочкам, расспрашивая о поэте, услышал, что Блок ей однажды сказал: «А вы знаете, я человек среднего ума...»
Всегдашнему хору умников в статье о Верлене ответил Пастернак: «Кем надо быть, чтобы представить себе большого и победившего художника медиумическою крошкою, испорченным ребенком, который не ведает что творит. Наши представления <...> недооценивают орлиной трезвости Блока, его исторического такта, его чувства земной уместности, неотделимой от гения».
Овладевший «революционной теорией» критик для Е. Ф. К. «больше, чем художник». Поэтому ей, в отличие от Блока, все совершенно понятно, сомнения излишни. По крайней мере, в ее многочисленных писаниях. Десятилетиями она выступала с воинственной партийной критикой на газетных и журнальных страницах. Еще чаще и резче обличала во внутрииздательских рецензиях Дмитрия Кедрина, Андрея Платонова, Илью Эренбурга, Анну Ахматову, Михаила Бахтина, Марию Петровых, Арсения Тарковского... Ставила на место, поучала, выставляла красным карандашом оценки, выносила приговоры. Опубликовала множество статей, предисловий, рецензий, выпустила дюжину книг, мгновенно погрузившихся вместе с советской эпохой в Лету, и бескорыстный читатель вряд ли станет выуживать их оттуда. Кроме одной — «Об Александре Блоке».
Перевоспитанная — вместе с большинством — диктаторскими десятилетиями, Е. Ф. К. старательно служила «единственному хозяину в литературе». Им, по мнению Сталина, был ЦК, то есть он сам, затем его соратники. Служила чересчур старательно. Но хочется думать, что жила в ней, пусть затаенно съежившись, и сомневающаяся душа.
Совсем неожиданно ко мне попал ворох бумаг, большей частью писем, десятка два книг, семейные фотографии — остаток архива Е. Ф. К., ее сестры и брата. Я стал в нем разбираться.
Кипа семейных фотографий без подписей, на картонных паспарту которых узорчато, с рекламной позолотой, с вытесненными медалями обозначены фотоателье Гельсингфорса, Выборга, Петербурга. Лица на фотографиях начала прошлого, а то и конца позапрошлого века, опознавать давным-давно некому.
Груда писем без конвертов и в конвертах, менявшихся размером, цветом, марками с распростертыми двуглавыми орлами, с красноармейцем в буденовке, с штемпелями и без, передававшиеся с оказией. Чем старорежимней бумага, тем белее и плотнее.
Самое значительное из архива Е. Ф. К. давно попало в музей в Шахматове — письма Блока, надписанные им книги, письма его жены, матери. Но кое-что связанное с великим поэтом осталось. Например, большинство писем к Е. Ф. К. Марии Андреевны Бекетовой, тетки Блока, его биографа. И в родственной переписке — в письмах Евгении Федоровны к старшему брату Константину, к сестре Вере, в письмах их матери, Ольги Христофоровны, сквозь семейные озабоченности, утраты, перипетии, суетность встречается искрящее имя Александра Блока, высвечивая обыденность страшных десятилетий. Мелькают в них подробности советской литературной жизни. Уцелели некоторые письма литераторов к Е. Ф. К. В воспоминаниях она сообщала, упоминая об утраченном письме Блока, что большая часть ее архива пропала в 1941—1942 годах, то есть во время ее недолгой эвакуации в Казань.
Что остается от человеческой жизни? То, что стало историей. Но существенны уцелевшие в письмах и документах подробности, те говорящие мелочи и пестрящие пустяки, что задевают воображение.
Перебираем остатки старых бумаг, разбираем беглые почерки, в меру сил и пристрастий пытаемся представить прошлое, оставившее рваный чернильный след разного цвета и оттенка. Ищем правду, хотя всей правды, понятно, не найти и не вообразить. Свидетели умерли.
Но все же попробуем что-нибудь узнать, угадать, представить — кто есть кто, разобраться в обстоятельствах. Постараемся не выдумывать, не обличать, не морализировать.
Я стал знакомиться с биографией Е. Ф. К., вникать в невнятные поначалу бумаги, с любопытством и некоторой неловкостью читая чужие, преимущественно женские письма, вчитываясь в бойкие, не без изощренных построений, по большей части скучные книги, статьи и рецензии главной героини. Но прежде всего в сказанное ею о Блоке.
Александр Блок написал о своем отце, ему чуждом, но близком на «самых тайных» путях: «Судьба его исполнена сложных противоречий, довольно необычна и мрачна» (VII, 12). Это можно было бы сказать и о судьбе поэта, но она стала сюжетом «лирической трилогии», ею высвечена, ею оправдана. Трилогия завершена в 1916 году. Началось время эпоса — войны, революции, кровожадной междоусобицы, возмездия.
В революционные годы рядом с Блоком, в его доме, появляется Е. Ф. К. На страницах тогдашних ежедневников поэта время от времени мелькают эти инициалы, особенно часто в предсмертный год. Поэтому так важны ее свидетельства об Александре Блоке. Уточнить или оспорить их некому. Она — последняя современница, близкая поэту.
К концу жизни Е. Ф. К. говорила, что Александр Александрович Блок определил ее жизненный путь и путь в литературе. Как бы мы ни оценивали ее путь, это так. Она познакомилась с Блоком двадцатилетней барышней, пробовавшей писать стихи, при его покровительственном участии занялась переводами, написала рецензию на два спектакля и два небольших предисловия к прозе Гейне. Эти работы начинающей литераторши интересны тем, что к ним имел отношение Блок. Но главное, она вошла в окружение поэта, стала довольно близкой, преимущественно в последний год жизни, ему и его семье — матери, затем тете и жене. Литературная репутация появилась гораздо позже.
Книга «Об Александре Блоке», как большинство ее книг, составлена из текстов, написанных в разные годы, преимущественно в 1980-е. Предваряя ее, Е. Ф. К. подчеркивала, что точность написанного через шесть десятилетий «корректировалась разрозненными дневниковыми записями тех лет». Воспоминания ее большей частью не исповедальны, не дневниковы, а продуманно выстроены и осторожны. Тем более что первая часть воспоминаний — статья, написанная в 1980 году для первого тома блоковского «Литературного наследства», изданного к 100-летию со дня рождения поэта. По свидетельству Ильи Зильберштейна, их инициатора, поначалу «Евгения Федоровна решительно отказалась, сказав, что ни разу воспоминаний о нем не писала и писать не будет». Но после долгих уговоров уступила. В тексте воспоминаний, несмотря на декларацию «точного разграничения двух времен и двух восприятий», бесценные свидетельства перемежаются комментариями с отчетливыми отпечатками тяжкого опыта служения советской доктрине. Умолчания, оговорки, необходимые подчеркивания. О меняющейся, все более горькой и резкой реакции Блока на события почти не говорится. И все же Е. Ф. К. не могла не сказать о чертах «внутреннего неблагополучия», о его вопросах «о том, где, в чем живет то, что родилось в Октябре». Правда, тут же она говорит о травле, развязанной против Блока «главными интеллигентами».
Показательна ее полемика с Ивановым-Разумником, написавшим, что после «Двенадцати», уже с конца 1918-го, «... тихо, но беспощадно въедалась в душу поэта беззвездная тоска». Заявив, что это «неправда», Е. Ф. К. уточняет: «... точнее, одна из тех отвратительных, обывательских полуправд». Она уверена: возразить некому, книг автора, прошедшего «тюрьмы и ссылки», умершего в Мюнхене, переиздавать не станут никогда. Полемизирует она с книгой Иванова-Разумника «Вершины», вышедшей с цензурными купюрами. Цензорша, вспоминал тот, «...потребовала изъятия ряда мест из моей речи о Блоке, полностью напечатанной двумя годами ранее...» Позже издательству было заявлено: «А книг Иванова-Разумника вы нам лучше и не представляйте — все равно мы их не пропустим, независимо от содержания».
Е. Ф. К. уже к концу двадцатых выучилась писать как нужно. И написанный ею портрет Александра Блока подретуширован, «идейно выверен». Тут она не оригинальна, повторяя заклинания, общие для большинства блоковедов советских десятилетий. А может быть, несмотря на по-прежнему уверенную память, таким она теперь и представляла Блока? Главное — это, а не возраст за восемьдесят, не дистанция десятилетий. «За точность слов, записанных сразу, я отвечаю», — утверждает она и добавляет: «Смысл был неясен мне тогда».
В тексте воспоминаний встречаются пассажи из ее прежних писаний.
В рецензии на книгу Валентина Катаева «Алмазный мой венец», например, она цитирует строку Вячеслава Иванова, замечая, «которую любил повторять Блок»: «В дни, когда новой весной жизнь омрачилась моя» (у автора: «В год...»). В воспоминаниях эта строка процитирована Блоком в разговоре с ней о переводах Гейне.
Какими-то воспоминаниями она делилась гораздо раньше. Так, Д. Д. Благой, приводит ее устные свидетельства в статье «Александр Блок и Аполлон Григорьев» (1928).
Кроме собственных записей «тех лет», она использует цитаты из блоковского дневника и статей, из воспоминаний Бекетовой, Алянского, из воспоминания «только видевшего» Блока Федина, из Горького. Кроме Е. Ф. К., в 1920—1921 годах с Блоком и его семьей близко общалась Надежда Александровна Павлович, оставившая воспоминания, к которым не раз возвращалась. Они населенней воспоминаний Е. Ф. К. и, можно сказать, простодушней. Иные эпизоды, детали и даже интонации обеих мемуаристок близки. Поскольку в библиотеке Е. Ф. К. сохранился «Блоковский сборник» с воспоминаниями Павлович, где присутствуют ее пометы, можно говорить если не об их влиянии, то, по крайней мере, об оглядке на них. Но Павлович, с которой она познакомилась вместе с Блоком и в его доме, когда та впервые пришла к поэту, а затем не раз встречалась, ею даже не упомянута, а из женщин, вспоминавших о Блоке, названа лишь В. П. Веригина.
Многие ее подробности точны.
Вот она рассказывает о блоковской манере говорить «очень по-своему», помогая «жестом и улыбкой»: «Бывают разговоры такие, такие, а у нас с Вами — такой (круто ведет рукой вверх)». Похожее — в дневнике Чуковского. Блок объясняет: «...у меня там выведен царь, который растет вот так, — и он начертил руками такую фигуру ˅, — а потом цари стали расти вот так ˄...»
Но все же без пунктуально зафиксированных встреч и деловых отношений в записных книжках-ежедневниках Блока, только по ее воспоминаниям, представить последние годы поэта, историю их отношений невозможно. В них и отсверк молодости вспоминательницы, и оглядчивые недомолвки старости, и въевшиеся повадки официозной критикессы.
Вошедший в книгу текст первой части воспоминаний после первых публикаций дополнен дневниковыми записями, посвященными Ремизову, о котором стало разрешено упоминать, есть в нем и некоторые, как правило, малосущественные разночтения.
Вторая часть самая значимая, в нее включены дневниковые записи и заметки, сделанные «в конце 1922-го или в начале 1923-го». Правда, дневниковые рукописи тех лет неизвестны и, видимо, не сохранились. Возможно, эти заметки восходят к тексту для затевавшегося в 1922 году Ивановым-Разумником и Мстиславским журнала «Основы». В первом номере предполагались ее воспоминания о Блоке.
К участию в «Основах» Е. Ф. К. привлек Сергей Дмитриевич Мстиславский. Но впервые и, конечно, в новой версии эта часть воспоминаний опубликована только в 1986 году. «Кроме некоторых сокращений, — уверяет автор, — в них не изменено ничего». Зная, какие купюры делались в советские времена в публикациях дневниковых записей поэта, можно предположить, что опущено и нечто существенное. Но, кроме купюр и умолчаний, о которых, не зная раннего текста, гадать бессмысленно, здесь налицо не педалируемые, но «идеологически выверенные», с ритуальным поминанием «великого Октября», позднейшие оценки и объяснения.
Мемуарные свидетельства вкраплены также в статьи, заключающие книгу «Об Александре Блоке»: «Мой Вагнер» и «Шекспир Александра Блока». Обе датированы 1985 годом. Но еще в 1925 году на заседании 29 октября Ассоциации по изучению творчества Александра Блока Е. Ф. К. сделала доклад «Блок и Шекспир».
Кое-что — совсем немногое — сказано в воспоминаниях и о собственной жизни до знакомства с поэтом.