Мы забываем о деревьях
Рассказ Александра Соболева из сборника «Сонет с неправильной рифмовкой»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Александр Соболев. Сонет с неправильной рифмовкой: книга рассказов. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2024. Содержание
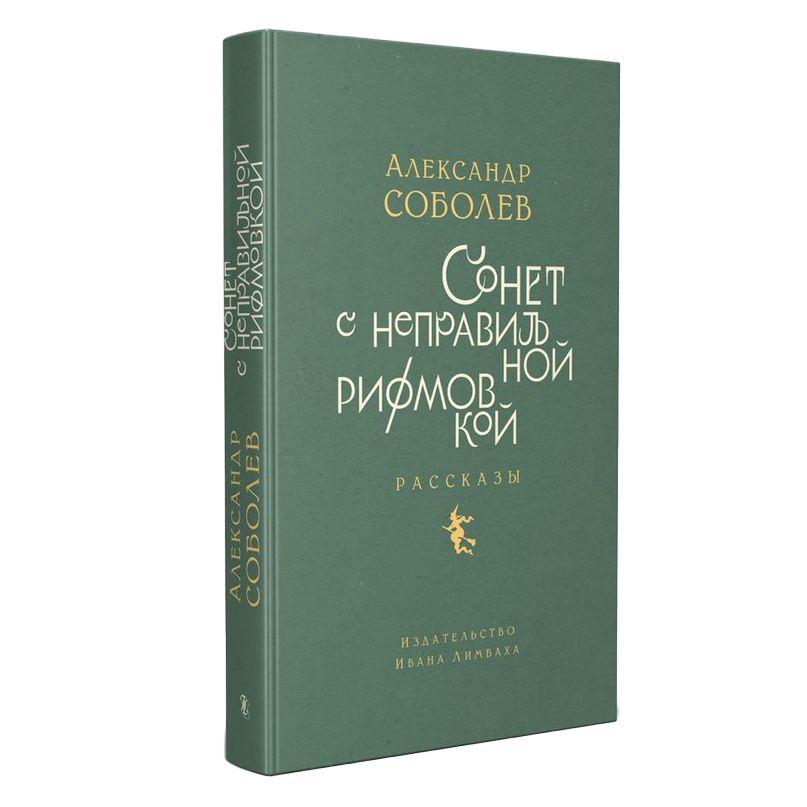 Редактор «Нового слова» Виктор Владимирович Столбовский проснулся с неприятным чувством полузабытого огорчения. Из-за неплотно задвинутых штор виднелись полоски мутного света. Несколько минут он пролежал, прислушиваясь к тихому дыханию спящей рядом жены и надеясь вновь погрузиться в забытье, но потом, протянув руку и оживив своим прикосновением (жест, доступный в старину лишь богам и героям и ничего не значащий для нас) телефон, убедился, что уже наступило утро, и, следовательно, нужно вставать, завтракать и приниматься за работу. Столбовский умел, чувствуя на заднем плане своего ума навязчивую эмоцию, аккуратно распеленать события предшествующего дня, чтобы докопаться до ее источника и там же и уврачевать, — так военный хирург разрезает слои одежды на раздражающе стонущем пациенте, чтобы добраться до раны. Просматривая новости в телефоне, он медленно перебирал разговоры, телефонные звонки и мысли вчерашнего утра, дня, вечера, пока нужное воспоминание не откликнулось с готовностью больного зуба: ближе к полуночи он получил мейл от Юкина.
Редактор «Нового слова» Виктор Владимирович Столбовский проснулся с неприятным чувством полузабытого огорчения. Из-за неплотно задвинутых штор виднелись полоски мутного света. Несколько минут он пролежал, прислушиваясь к тихому дыханию спящей рядом жены и надеясь вновь погрузиться в забытье, но потом, протянув руку и оживив своим прикосновением (жест, доступный в старину лишь богам и героям и ничего не значащий для нас) телефон, убедился, что уже наступило утро, и, следовательно, нужно вставать, завтракать и приниматься за работу. Столбовский умел, чувствуя на заднем плане своего ума навязчивую эмоцию, аккуратно распеленать события предшествующего дня, чтобы докопаться до ее источника и там же и уврачевать, — так военный хирург разрезает слои одежды на раздражающе стонущем пациенте, чтобы добраться до раны. Просматривая новости в телефоне, он медленно перебирал разговоры, телефонные звонки и мысли вчерашнего утра, дня, вечера, пока нужное воспоминание не откликнулось с готовностью больного зуба: ближе к полуночи он получил мейл от Юкина.
«Старик, дорогой!» — начиналось, как обычно, это письмо. Юкин, с его обширными знакомствами и холерическим темпераментом, лепил «дорогого» и «дорогую» направо и налево, собственно, с первых же писем к доселе незнакомому адресату. Впрочем, эпистолярный этикет еще при самом своем зарождении грешил странными гиперболами: мы подписываемся «ваш» или «ваша», вовсе не предполагая вверить себя корреспонденту — да и в XIX веке писалось «покорный слуга» или «готовый к услугам», притом что пишущий, по удачному выражению одного из мастеров этого жанра, никоим образом не просился в камердинеры. «Стариком» же Юкин без исключения титуловал большинство своих знакомых мужского пола. Малопочтенное это обращение, кажется, было родом из 60-х или даже 50-х и попервоначалу, может быть, казалось смешным — особенно когда так называли друг друга любимые герои советского кинематографа, коротко стриженные, но все равно непобедимо вихрастые юноши в роговых очках и клетчатых рубашках. Но с годами, когда рубашки поизносились, вихры поседели, а сами герои с какой-то мультипликационной скоростью превратились в согбенных и дурно пахнущих пенсионеров, шутка потеряла свою остроту.
«Старик, дорогой! Знаю, что ты очень занят, но, может быть, у тебя найдется минутка для бедного изгнанника. Как ты, наверное, слышал, меня отовсюду выперли, так что доедаем с семейством последний х. без соли: х. свой, а соль купить не на что. Но я, однако, не сдаюсь. Посылаю тебе свою новую нетленку».
Вновь характернейшая юкинская фразочка, своего рода двойной словесный перевертыш: очевидно, что, именуя так свое сочинение (тоже, конечно, мелкотравчатый совписовский термин 70-х), он заранее подшучивает над ним, вырвав тем самым возможное оружие из рук собеседника. Но за этой иронией мрачной тенью вставала его собственная звериная серьезность по отношению к своей персоне и своим трудам, свидетельством чему тщательная, с рвением садовника выполняемая работа над своей биографией в Википедии, — ибо любой печатный чих, не исключая газетных интервью и «писем в редакцию», туда немедленно любовно подшивался.
«Посылаю тебе свою новую нетленку. Знаю, как ты занят. Пробеги, плз, если будет минутка. Хорошо бы успеть в декабрьский номер... И конечно, гонорарий!!!»
В другой ситуации простота, с которой Юкин расставлял в своем письме незамысловатые силки и петли, могла бы позабавить Столбовского. Безобразное «плз» сигнализировало о том, что автор молод душой и, не будучи языковым пуристом, охотно пользуется современным сленгом; фальшивые соболезнования по поводу занятости адресата с хрустом ломались о бесцеремонное понукание следующей фразы (ибо на дворе стоял сентябрь и декабрьский номер был уже практически собран, о чем автор не мог не знать). И венчало это все — словно вишенка на торте, как говорилось в той языковой среде, под автохтона которой Юкин пытался мимикрировать, — просьба о финансовом вспомоществовании (по сложившемуся опыту к первой четверти XXI века сама перспектива публикации в толстом журнале сделалась уже настолько лакомой, что на гонорар могли рассчитывать только авторы из самого близкого круга или особо приглашенные звезды).
Столбовский, заранее морщась, открыл приложенный к письму файл. Он назывался «Тайна „Мертвых душ“» и начинался так: «Шедевр украинского писателя Миколы Гоголя есть произведение до конца не прочитанное». Это была фронда, причем фронда разрешенная и полезная — она сигнализировала о вольнодумии автора и о похвальном направлении журнала, что было ценно, поскольку в лучшую сторону отражалось на тираже, вернее не на тираже как таковом (о несчастных полутора тысячах бумажных экземпляров, рассылавшихся по сельским библиотекам и раскупавшихся честолюбивыми авторами, никто и не вспоминал), а на просмотрах — отныне главном и единственном показателе читательского спроса. Более того, в этой фронде, как у лучших мастеров жанра, проглядывало на самом дальнем плане еле заметное, на грани нервного тика, верноподданическое подмигивание самому высокому начальству — поскольку сверху был спущен тезис о том, что мы сражаемся не с Украиной per se, а со случайно воцарившимися там малопонятными и неизвестно откуда взявшимися людьми, именовавшимися то кликой, то хунтой, а то и режимом, между тем тамошние жители и их культура нам близки до степени смешения.
Юкин был не просто мастером этих тонких подмигиваний, перешептываний и полунамеков, а просто каким-то магистром, причем издавна, когда византийская сложность гуманитарно-коррупционного мироустройства только готовилась окутать немыслимую простоту постсоветского мира. Столбовский познакомился с Юкиным лет тридцать назад в троллейбусе номер «Б» (про который москвичи любили передавать несколько обтрепанный от частого использования анекдот о том, как приезжий был ошеломлен вопросом прилично одетой женщины, не знает ли он, где тут останавливается «букашка»). Вот в этой самой «букашке» и ехал Столбовский со своим приятелем, когда на остановке в троллейбус вскочил полноватый юноша с холеными усиками подковкой, облаченный в белые кроссовки с претолстой рельефной подошвой и помаргивающими цветными лампочками в ней. Не успел Столбовский подумать, что новый пассажир необыкновенно похож на воришку-карманника (которые нередко промышляли на этом маршруте), как тот шумно приветствовал его приятеля: «Старик, сколько лет!» После чего, не прервавшись даже для ритуального вопроса о делах и лишь раздраженно сунув руку Столбовскому («юкин-оч-приятно»), он стал взахлеб, как будто опасаясь, что его перебьют, рассказывать, как они с другом открыли способ ежевечерне бесплатно питаться в лучшем московском казино.
Способ был, по собственному определению Юкина, «прост, как все гениальное» (он любил эти истертые словечки). Вдвоем, хорошо одетые (на этих словах Столбовский не удержался от того, чтобы прищуриться на его перемигивающиеся кроссовки), они приходили порознь в «Метелицу», делая вид, что между собой не знакомы. Каждый покупал билет за десять долларов (Юкин любовно называл их «баксы» или «бакинские») и получал за это, по правилам казино, фишки на эту же сумму. Здесь наступал тонкий момент. Им нужно было, по-прежнему изображая взаимное незнакомство, подойти к столу, где играли в рулетку, и одновременно сделать ставки: приятель ставил на красное, а Юкин на черное (или наоборот). В результате один из них проигрывал, а другой получал двойной выигрыш — и они, продолжая держаться порознь, шли ужинать: в казино всем игрокам полагалась бесплатная трапеза и напитки лились рекой.
— А если зеро? — спросил приятель.
Юкин развел руками:
— Пока не выпадало.
На этих самых словах с каким-то театральным хронометражем троллейбус распахнул двери, сквозь которые Юкин выскочил в обычную зимнюю слякоть и, перескакивая через лужи, помчался по тротуару. Кроссовки его светились неземными огнями. «Это Юкин. По прозвищу Юкин сын. Далеко пойдет», — пояснил приятель.
Так и вышло. В следующие годы Столбовский все чаще встречал имя Юкина и его самого, как будто тот постепенно, с гипертрофированной неторопливостью питона смыкал вокруг него кольцо. Тематический репертуар его был феноменален, а энергия неисчерпаема — Юкин с одинаковой лихостью писал книги о Петре Великом, немецком Средневековье, бурятских ламах, советских пограничниках и итальянском кинематографе. Злые критики замечали, что все его персонажи выходят немного похожими на самого автора — полноватые, недалекие, нахрапистые, припахивающие лошадиным потом, — но это не мешало ему год от года становиться все более знаменитым. Его в хвост и гриву эксплуатируемый творческий метод был примитивен и безотказен. Первым делом изобретался центральный, дикий в своей парадоксальности, тезис. Он, этот тезис, провозглашался в конце первой главы, после чего читатель, мысленно протиравший глаза в оправданном недоумении, подвергался вдруг скоростной бомбардировке сведениями, цитатами и простыми силлогизмами, которые имели целью этот тезис поддержать. Действовало это как залп ракет-обманок на систему противовоздушной обороны: массовая атака так перегружала мозг, что он терял способность к критическому восприятию. Его последняя перед эмиграцией книга, биография Чехова под названием «Потаскун из Таганрога», была построена вокруг идеи, что Антон Павлович представлял собой мангуста — не в каком-нибудь философском, а совершенно в практическом и даже отчасти зоологическом смысле. Замечательно, что к концу четвертой части (набранной, впрочем, весьма разгонисто и с огромными полями) изможденный читатель настолько уже готов был этому поверить, что, когда в книге показывался настоящий мангуст по кличке Сволочь, захваченный героем в Шри-Ланке по пути с Сахалина, страницы монографии начинали лишь успокоительно двоиться перед глазами.
В последнее десятилетие Юкин был звездою СоХи — удивительного учебного заведения, которое могло появиться только в России и только в начале 2000-х годов. На северо-востоке Москвы издавна существовал сельскохозяйственный институт имени К. Д. Лёвина, влачивший в постперестроечные четверть века довольно жалкое существование. Понятно, что юных москвичей, желающих овладеть почетным трудом агронома или доярки, становилось все меньше, но у института имелось кое-какое имущество, заключавшееся в чрезвычайно привлекательных полях, лугах и покосах, расположенных по обе стороны городской черты. Время от времени под напором текущих нужд институт отчуждал небольшие наделы из своих запасов, как русский крестьянин выбрасывает, по преданию, из саней младенца, чтобы отвлечь волчью стаю и дать остальной семье шанс на спасение. Волчья стая, впрочем, множилась, а запасы младенцев подходили к концу, когда случилось «нечто вроде чуда», как говорил Ефим Семенович Губонин, тогдашний ректор.
Один из давних выпускников факультета пушного звероводства, ничем за все годы обучения не запомнившийся, оказался кем-то вроде министра без министерства или премьера без кабинета — в общем, заполнил собой одну из важнейших и при этом неназываемых государственных функций. Вследствие этого карьерного взлета или независимо от него, он ощутил резкий укол сентиментальности — и в какой-то момент предстал перед озадаченным ректором в виде антропоморфной (и весьма корпулентной) золотой рыбки, готовой выполнить бесконечное количество желаний.
По сути, желание потребовалось всего одно — и от финансовой Амазонки, оказавшейся в феодальном владении выпускника, был сделан малюсенький отводок, совсем незаметный на общем фоне, но совершенно животворный для изнемогающего от денежной засухи учебного заведения. Губонин показал себя человеком весьма амбициозным, и вслед за удовлетворением неотложных нужд (вроде ремонта основного корпуса и немедленного повышения жалования профессорам, которые последние годы работали уже не за идею даже, а как будто назло очевидности) институт начал расширяться. Вероятно, со времени золотой лихорадки в Соединенных Штатах ни один университет в мире не разбухал так стремительно: приобретались огромнейшие здания в самом центре Москвы, куда немедленно завозились бригады строителей и ремонтников; оптом закупалось оборудование для лабораторий, тонкорунные овцы и мраморномясые быки для экспериментальных ферм и саженцы бромелиевых для оранжереи тропических растений.
На второй год сельскохозяйственная тематика для академии (в которую первым делом переименовался институт) стала тесна. В дополнение к привычным факультетам открыли химический (чтобы учиться делать удобрения), биологический (с очевидной целью) и финансовый (считать будущие прибыли). На следующий сезон, исчерпав номенклатуру естественных наук, взялись за неестественные: добавились история, философия и филология. Попервоначалу сочетание «философский факультет сельскохозяйственной академии» звучало несколько нарочито, но нет такой неловкости, которую не сгладила бы определенная сумма: а на жалованье СоХа не скупилась. Естественно, что Юкин, чуявший денежные знаки, как лозоход воду, не мог оставаться в стороне. Собственно, ему даже особенных усилий прилагать не пришлось, поскольку они с СоХой как будто были специально созданы друг для друга. В результате на филологическом факультете расцвел и, выражаясь в первоначальных терминах учреждения, заколосился удивительный тип учености, насаждавший пышные островки узкоспециальных знаний среди необозримых пространств невежества.
Выпускники СоХи выучивались сходу написать научную работу для престижного журнала на любом иностранном языке, причем на совершенно произвольно выбранную тему; были способны два часа рассуждать об одной стихотворной строчке или анализировать влияние идей Сьюзен Зонтаг на перформанс восходящей отечественной звезды андерграунда Зефиры Глы, но при этом не могли назвать имени князя Вяземского, путали анапест с дактилем, а про Толстого твердо знали, что он был погрязший в мизогинии крепостник, гомофоб и ретроград. Юкин, чувствовавший себя в этом изводе гуманитарных наук как птица в восходящем потоке, продолжал бы блаженствовать и впредь, если бы не недобрый сквознячок, подувший одним зимним утром из приотворенной двери истории. Подхваченный этим ветром, был он унесен сначала в одну из экс-советских республик, но, не зацепившись там (мудрено было после московских пышных яств и дикого меда перейти к акридам, да еще и поставлявшимся с перебоями), перемахнул на манер перекати-поля через Атлантический океан и осел в одном из районов Буэнос-Айреса.
Как это свойственно изрядной части эмигрантов, первое время он нахваливал новую родину с пылом почти неприличным. Дифирамбы пелись хлебу и маслу, троллейбусам и калебасам, танго и стейкам, не говоря уже об общественном устройстве и повальном дружелюбии. Потом дым фимиама слегка раздернулся, причины чего были объяснены узкому кругу друзей в подзамочной записи: оказывается, Юкин, несмотря на всю живость ума, пал жертвой примитивнейшего из мошенничеств, совершенного прямо на центральной улице, да еще и в такой неудачный момент, что несомая им с собой только что полученная в меняльной конторе двухмесячная арендная плата за московские хоромы перешла к грабителям. После этого горячность его пошла немного на убыль. Немало этому способствовала и череда неудач с трудоустройством: южноамериканские университеты были полностью укомплектованы собственными звездами и в услугах заезжих не нуждались; работать же так, как все обычные люди, на фабрике или в офисе пять дней в неделю Юкин и не умел, и не хотел. Недолгая попытка дистанционно преподавать разбилась о несколько рифов разом — и не последним среди них была разница часовых поясов: небритый, явно только что проснувшийся по будильнику, отчаянно зевавший Юкин на гигантском экране одной из аудиторий СоХи терял весь свой лекторский магнетизм и казался просто немолодым и откровенно глупым мужчиной, вытащенным среди ночи из постели. Оставалось конвертировать в денежные знаки оставленную на родине репутацию — и он бросился бомбардировать статьями все российские журналы, которые хотя бы теоретически могли заинтересоваться его сочинениями. Одна из них и досталась Столбовскому.
«Шедевр украинского писателя Миколы Гоголя есть произведение непрочитанное», — еще раз перечел он. «Удивительно, что за почти двести лет с момента выхода книги никто не обратил внимания, что один из главных персонажей имеет вполне узнаваемый прототип. Мы говорим о Плюшкине — и готовы убедительно доказать, что Гоголь изобразил в нем своего друга и покровителя Александра Сергеевича Пушкина».
Дальше следовала череда доказательств, для убедительности пронумерованных. Общий вид запустения усадьбы Плюшкина сопоставлялся с «Вновь я посетил...» («„скривилась мельница“, „дорога изрытая дождями“, „убогий невод“ — разве не эти слова приходят на ум, когда читаешь начало шестой главы!» — восклицал автор); внешняя небинарность Плюшкина сопоставлялась с пушкинским прославленным протеизмом; «кучка исписанных бумажек» в кабинете несомненно намекала на отброшенные брульоны неудавшихся стихов; завалявшаяся в углу старинная книга свидетельствовала о библиофильстве; очиненные перья прямо сообщали о том, что обитатель кабинета — писатель. Упоминалось ли в «Мертвых душах» нашествие французов, при котором употреблялась плюшкинская зубочистка, Юкин сразу вспоминал об образе Наполеона в пушкинских стихах; то, что ключница, как подчеркивал Гоголь, не бреет бороды, было лишь зеркалом фрагмента из «Домика в Коломне», где кухарка, напротив, брилась. Конечно, похожие на бегающих мышек глазки Плюшкина вели за собой «жизни мышью беготню» из пушкинского шедевра, а учитель-француз, да еще и стрелок, прямо указывал на «Дубровского»... Неуступчивость Плюшкина к поставщикам, силившимся скупить его запасы, прямо связывалась с известной скаредностью поэта в денежных делах. «А уж когда, — следовало далее, — мы узнаем, что у Плюшкина были две дочери и сын, причем одну из дочерей звали Александрой (sic!), все окончательно встает на свои места» (это место осталось Столбовскому непонятным, поскольку он твердо помнил, что детей у Пушкина было четверо). Завершалось все довольно многословным рассуждением, имеющим целью поместить отношения Гоголя и Пушкина в уютное ложе колониальных практик (так сейчас было принято выражаться): дескать, подсказав сюжет «Мертвых душ», Пушкин нанес Гоголю род душевной травмы, избывая которую тот вынужден был изобразить своего благодетеля в ироническом свете.
Собственно, в статье этой не было ничего дурного. Ужасно не хотелось переделывать уже сложенный декабрьский номер, поскольку получался он, что называется, ударным. Ах, что это был за номер! Раздел прозы открывался повестью про трепетного юношу, сомневающегося в своей гендерной самоидентификации и пытающегося обрести себя в щемящей атмосфере Набережных Челнов. Другая проза, роман с продолжением, была травелог — про путешествие героя по России с мумифицированным трупом бабушки в багажнике семейного универсала: он назывался по современной моде по-английски: «Look, Grandma!!!»
Потом помещались стихи: исключительная подборка верлибров Муси Белоусовой (в последние годы сделалось принято взрослым мужчинам и женщинам представляться уменьшительными именами, а то и детскими прозвищами: высшие сферы заполонили вдруг Тосики и Масики), моностихи Ильи Медовщикова и, главное, долгожданная поэма Веры Зюзиной, за которую пришлось крепко побороться с «Современным миром».
Дальше шла рубрика «Взрослый разговор». Она открывалась стенограммой круглого стола, посвященного творчеству Зефиры Глы, после которой шла серьезная, концептуальная работа, которой не постеснялись бы и в «Северном вестнике»: «Вагинальный дискурс у Коти Баренбаума как опыт преодоления советской трагедии». В конце были еще страниц двадцать библиографических заметок, анонс содержания следующих номеров и общий указатель за год. Словом, всего этого на диво стачанного номера было смертельно жаль. Но даже и в него удалось бы всунуть статью Юкина (в конце концов, разлегшийся на два листа Котя мог бы и потесниться со своим дискурсом), если бы не одно обстоятельство: все эти соображения про Пушкина-Плюшкина были уже как минимум дважды опубликованы.
Столбовскому уже в первых строчках почудилось что-то знакомое — и первый же запрос его подозрения подтвердил: выяснилось, что шесть месяцев назад Юкин делал на престижной славистической конференции в Йыхви доклад «Пушкин и Гоголь: к постановке проблемы» (увы, присутствуя там в качестве бесплотного духа на экране, ибо всего конференциального бюджета не хватало, чтобы перенести его физическое тело из Южного полушария). Составленный по результатам конференции сборник статей был почти мгновенно издан и имелся в интернете: наличествовал там и юкинский доклад. Кроме того, еще месяц спустя тот же текст под названием «Загадочные страницы Гоголя» был напечатан в «Новых старых годах» — и даже успел получить премию за лучшее гуманитарное исследование 202* года.
В прежние времена поступки подобного рода возбранялись категорически: известен случай, когда Федор Сологуб, пославший по ошибке в журнал уже опубликованное стихотворение, оплатил из своего кармана труд двух студентов, которые вырезали его во всех экземплярах и заменили другим, прежде в печати не бывшим, также оттиснутым за авторский счет. Потом по мере трансформации общественных нравов отдать один материал в два места сделалось почти не зазорным, но даже тогда старались один из вариантов слегка переделать, переменив хотя бы треть или четверть текста. Нынче по мере окончательного торжества прагматики над пережитками с этим уже не стеснялись. Конечно, Столбовский имел полное право отказать Юкину, сославшись на то, что «Новое слово» вещей, бывших в печати, не помещает. Но этому противоречило одно, но очень весомое обстоятельство: он прекрасно знал, что за этим последует.
Историкам будущего, вероятно, доставит немало удовольствия следить, как в начале ХХI века чудовищно, на манер пораженного опухолью органа деформировался карательный институт общественного мнения. То есть где-то на окраинах социума он присутствовал всегда — еще, должно быть, питекантропу, умыкнувшему чужую самку или оплошавшему в охоте на мамонта, приходилось держать ответ перед сообществом, стоя посредине пещеры и испуганно озираясь в пляшущем свете факелов. Советская власть, вообще любившая пробуждать и взращивать в человеке атавизмы, ввела в обиход товарищеские суды и партийную проработку. Но совершенного расцвета эта практика достигла как раз в те годы, когда от советской власти остались одни воспоминания, причем расцвела она отнюдь не только в некогда инфицированных большевиками местностях, а едва ли не по всему миру.
Основной машиной ее, о дорог_ая будущ_ая коллега, стал так называемый Вейзпуг — таинственная организация, насчитывающая десятки тысяч сотрудников (по большей части замаскированных среди обычных людей). Существенная доля жителей Земли, брезговавших физическим трудом, обязана были публично отчитываться перед Вейзпугом за каждый прожитый день и даже каждую продуманную мысль, и, если человек случайно ошибался, отступив от единственно верного мнения или просто ставил себя выше коллектива, ему выносилось порицание, грозившее, в свою очередь, большими неприятностями уже и в обыденной жизни. Не случайно натренированное русское ухо слышало в самом наименовании Вейзпуга трансцендентальный «испуг», а где-то в туманной дымке узнавания виднелся еще и пук — тот самый пук розог, который в образованной среде припоминался задним крыльцом сознания как инструмент насильственно внедряемой учености.
Юкина Вейзпуг всегда хвалил и баловал — и на каждое его сообщение («записался в бассейн», «купил вина», «написал статью в „Сборник „Танго с коровами“ как тайный оммаж Аргентине“») откликался гипертрофированными похвалами, словно родители, чей младенец впервые проспал ночь, сэкономив памперс, — даром, что младенцу было под шестьдесят. Поэтому не просто ссориться с ним, но даже вызывать его малейшее неудовольствие было делом крайне нездоровым. Очевидно, что обиженный Юкин не призвал бы прямо к наказанию Столбовского, но непременно написал бы что-нибудь в таком роде: «Эх, что делается. Долгое время считал я Виктора Владимировича С. своим другом и приличным человеком. И что же? Отказался печатать мою статью. Понятно, в современной рф невозможно никакое честное слово, даже в такой далекой от политики области... Что ж, будем знать...»
Все, что последовало бы за этим, Столбовский хорошо себе представлял. Сначала под этой записью Вейзпуг наплодил бы множество отвратительных примитивных рожиц, которые должны были символизировать человеческие эмоции (причем репертуар эмоций у идеального сапиенса был как у красноухой черепахи — всего пять или шесть градаций от полного удовлетворения до бездонной ярости). Затем последовали бы короткие, как бы сквозь зубы высказанные реплики сочувствующих: «отписываюсь от журнала» (это значило, что у «Нового слова» сделалось на одного читателя меньше), «он всегда был подозрительным» и, наконец, лаконичное «позор», под которым вспухала новая серия оскаленных харь.
Дальнейшее тоже не представляло особенного секрета: щупальцы Вейзпуга потянулись бы к тем невидимым нитям, которые питали самого Столбовского, его семью и его детище. Сам журнал «Новое слово» представлял собой типичный пример симбиоза государства с частным капиталом: первое делилось бесплатным особняком в Замоскворечье, а второй оплачивал все остальное. Капитал был представлен в образе рассеянного плюшевого старичка, который благодаря череде генеалогически-приватизационных случайностей оказался вдруг владельцем примерно шестой части мировых запасов ванадия — и находился по этому случаю под санкциями нескольких десятков стран и институций. Сделавшись из-за этого невыездным (поскольку страны поплоше выдали бы его, не моргнув глазом, странам позубастее — о, будущ_ая коллега, золотая моя авторка, как мне все это тебе объяснить?), он коротал свои дни на собственном острове Большой Змеиный в центре изрядного, принадлежащего ему же озера где-то посередине Карелии. Чувствительное сердце заставляло его быстро и охотно откликаться на чужую нужду — и в списке ежемесячных трат между «Навлинское общество любителей хорового пения» и «Носорог суматранский, зоопарк, Тобольск» шло «Новое слово».
Вряд ли взбешенным юкинским почитателям удалось бы добраться до самого ванадиевого старичка, да и совершенно не обязательно они смогли бы убедить его вычеркнуть журнал из заветного реестра. Но вот бомбардируя своими доносами надзорные, репрессивные, правоохранительные и прочие органы, они вполне были способны навлечь на издание череду неприятностей. Праздный человек, одержимый жаждой мщения, поневоле становится изобретательным, а в современном прозрачном мире никак не утаиться от недоброго взгляда. Очевидно было, что в самом непродолжительном времени добрались бы и до жены Столбовского (которая во все время его невеселых размышлений продолжала тихо спать, не подозревая, какая туча сгущается над головой ее мужа), и до двоих его детей. Понятно, что каждый из мстителей казался себе рыцарем, восстанавливающим справедливость, — но ведь и самые страшные преступления в истории человечества делались людьми, вовсе не упивающимися глубиной своей злобы, скорее напротив! Конечно, прямой угрозы жизни и даже здоровью Столбовского и его близких не было. Но он вспомнил Манурина, тоже не так давно навлекшего на себя народный гнев, и то, как его дочери звонили с разных номеров и спрашивали вкрадчиво «ну и каково это — иметь папу-фашиста?» — и его затошнило.
Грустно было на душе у Столбовского и скучно было за его окном (он тем временем перебрался на кухню, где заварил себе чай и устроился за столом полистать новости в телефоне). На улице шел дождь; деревья стояли с поблекшими листьями, но асфальт внизу был уже усеян желтыми и зелеными точками. Дворник, несмотря на морось, продолжал неслышно двигать метлой, как будто немножко кланяясь и наступая при каждом шаге, словно фехтовальщик. Светлый потрепанный фургон с потускневшими, но различимыми буквами «Давно пора» на борту (остатком рекламного слогана), пытался припарковаться в явно недостаточную для себя щель; на газоне дама в ярко-желтом дождевике стоически ожидала, пока две таксы, беспрестанно путавшие свои поводки, нагуляются и позволят ей вернуться под крышу.
Допив чай, он прошел мимо полуприкрытой двери спальни в свой кабинет и сел в кресло перед экраном. Спугнув заставку, он отыскал в груде скопившейся за ночь никчемной почты вчерашнее письмо Юкина и начал: «Привет, старик! Рад весточке от тебя. Статья пойдет в декабрьском номере...»