Муха победы и шершень трупов: как устроены метафоры в скальдической поэзии
Фрагмент сборника «Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе»
Зодчие, конунги, понтифики в средневековой Европе. Под редакцией Михаила Бойцова и Олега Воскобойникова. Серия «Polystoria». М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2021. Содержание
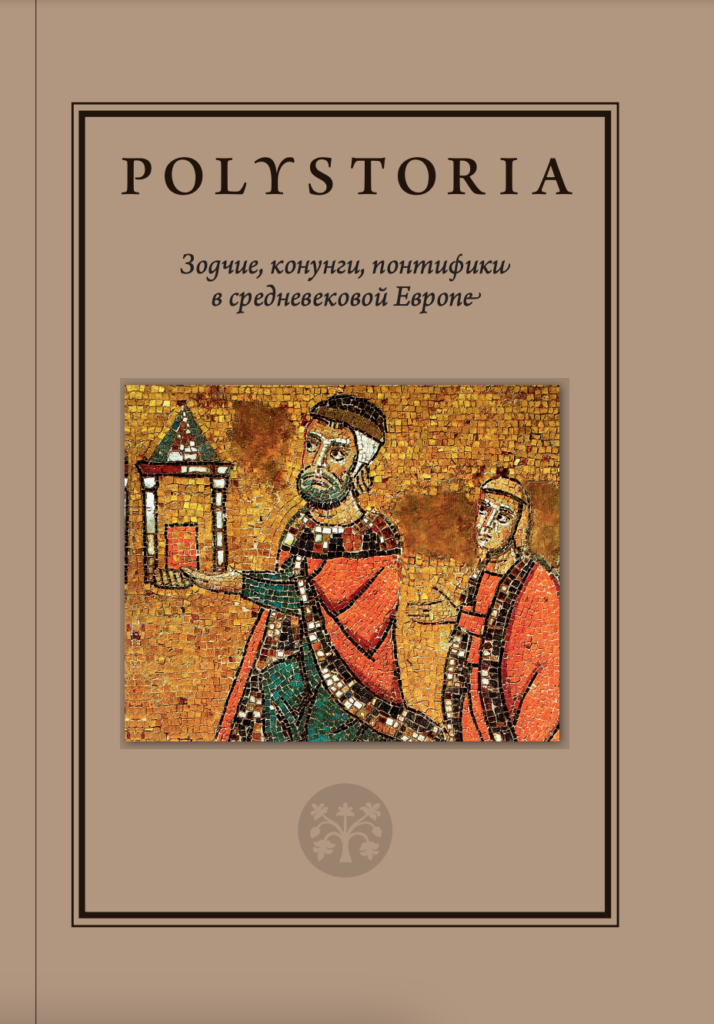 Замечательный во многих отношениях текст «Саги о Сверрире» интересен историку и филологу, помимо всего прочего, тем, что это едва ли не единственная сага, созданная по прямому заказу и при непосредственном участии ее главного протагониста, самого короля Сверрира. Здесь нет ни многовекового зазора между событием и его фиксацией на пергаменте, ни проблемы длинной цепочки свидетельств, передаваемых из уст в уста, из поколения в поколение, а потому в иной конфигурации предстает и глобальная саговедческая проблема — проблема достоверности повествования.
Замечательный во многих отношениях текст «Саги о Сверрире» интересен историку и филологу, помимо всего прочего, тем, что это едва ли не единственная сага, созданная по прямому заказу и при непосредственном участии ее главного протагониста, самого короля Сверрира. Здесь нет ни многовекового зазора между событием и его фиксацией на пергаменте, ни проблемы длинной цепочки свидетельств, передаваемых из уст в уста, из поколения в поколение, а потому в иной конфигурации предстает и глобальная саговедческая проблема — проблема достоверности повествования.
Так, практически не вызывает сомнений достоверность имен вещей, фигурирующих в тексте. Имена предметов, будь то оружие, доспехи, шлемы, щиты, боевые корабли или знамена, издавна воспринимались исследователями как явление весьма архаическое, связанное с языческой, и прежде всего с мифопоэтической, традицией. Жизнеописание же Сверрира позволяет убедиться, что во второй половине XII в. эта практика в давно крещеной Норвегии отнюдь не исчезла, но, напротив, была вполне жизнеспособна и актуальна, а возможно, даже переживала очередную волну популярности, своеобразный культурный расцвет. В частности, в саге несколько раз упоминается, что в эпоху гражданской смуты, когда Сверрир добивался норвежского престола, у него было знамя (merki), называвшееся не вполне тривиальным образом — Sigrfluga («Муха Победы»).
Что же это был за стяг и почему он так именовался?
Если говорить о скандинавском героико-эпическом бестиарии, то муха, насколько мы можем судить, не имеет здесь сколько-нибудь самостоятельного статуса, не наделяется она и какими-либо геральдическими функциями в позднейшей традиции. Слово fluga («муха») не используется в именах людей, хотя, с другой стороны, оно изредка появляется в прозвищах, кличках коней и однажды — в качестве названия оружия. На первый взгляд, может показаться, что единственная устойчивая коннотация, связанная с мухой, — это скорость, которая вроде бы к знамени — в отличие от лошади и, возможно, меча — прямого отношения не имеет.
Вообще говоря, имена предметов в древнесеверной традиции часто представляют собой загадку для современного исследователя. Хуже того: мы не всегда знаем, заложен ли в них этот элемент загадочности изначально, или для людей XII столетия, например, мотивировка выбора того или иного наименования была достаточно прозрачна? В случае с «Мухой Победы» мы полагаем, что некое кодирование, шифр, культурная игра здесь присутствовали, но вместе с тем это была загадка, поддающаяся отгадыванию и на него рассчитанная.
Еще в конце XIX в. Густав Сторм заметил, что название «Муха Победы» по своей структуре очень напоминает стандартные скальдические кеннинги, такие, например, как «дерево битвы» (= муж), «леопард лебедок» (= корабль) или «кукушка трупов» (= ворон). Если же наименование стяга есть не что иное, как двухчленный кеннинг по форме, то нужно и читать его соответственно как кеннинг, обозначающий некое другое понятие. В таком случае денотатом, означаемым для «Мухи Победы», по мысли Сторма, является ворон или орел, одна из двух основных птиц битвы в поэзии скальдов.
Более того, Г. Сторм шел дальше и утверждал, что, скорее всего, на знамени Сверрира был изображен именно ворон. Исследователь, судя по всему, руководствовался тем, что в нашем распоряжении имеется несколько известий из средневековых источников, где в связи со знаменами викингов так или иначе упоминаются вóроны. Одно из них встречается в «Англосаксонской хронике» под 878 г., другое — в латиноязычном «Панегирике королеве Эмме» («Деяния короля Кнута»), который являет собой не что иное, как похвалу датским властителям Англии, Кнуту Могучему и его отцу Свейну Вилобородому, третье — в латинском «Житии Вальтэова и его отца Сиварда Толстого», а еще одно — в саговом описании сражения ирландцев и викингов при Клонтарфе (1014 г.). Наконец, считается, что ворон изображен на стяге со знаменитого гобелена из Байё.
Предположение о присутствии ворона или орла на боевом знамени Сверрира представляется в чем-то вполне логичным и, вне всякого сомнения, заслуживающим внимания, однако не единственно возможным, а главное — отнюдь не окончательным, да и с изображением ворона на стягах викингов все обстоит не так просто, к чему я еще вернусь ниже. Начнем, однако, с кеннинга как такового, приводя попутно некоторые соображения, значительно ослабляющие, на наш взгляд, гипотезу Г. Сторма.
В доступных нам скальдических сочинениях слово fluga никогда не задействуется в составе кеннингов, хотя мы хорошо знаем, что птица в кеннинге может кодироваться при помощи другой птицы или даже летающего насекомого — в качестве легитимного с точки зрения скальдической поэтики обозначения птиц битвы, ворона или орла, здесь встречается, к примеру, «лебедь победы» (sigrsvanr) и «шершень трупов» (hrægeitungr), но никак не «муха битвы» или «муха трупов». Иными словам, мы вынуждены считать, что если «муха победы» — это кеннинг, то кеннинг нерегулярный, кем-то заново изобретенный и способный существовать изолированно, вне скальдического контекста. В таком случае перед нами с новой силой встает вопрос, почему для его образования было избрано слово fluga («муха»)?
Поясним, в чем именно заключается проблема. Если «муха победы» — это стандартный кеннинг, использующийся внутри скальдического текста, то вопрос, почему муха, лебедь или шершень избраны в качестве кодирующего слова, не вполне правомерен — здесь скальдическая поэтика изумляет читателя Нового времени своим принципиальным отсутствием индивидуализации и сугубо формальным основанием для сближения объектов в кеннингах. Как известно, древом брони или раздавателем богатств может быть назван с равным успехом конунг, простой дружинник или нищий калека, важно лишь, что и тот, и другой, и третий — мужи, а их удаль в сражении или способность наделять имуществом не имеют решительно никакого значения. Корабль соответственно может быть соотнесен с конем, а также любым другим животным, будь то вепрь, медведь, леопард или вол, лишь бы во второй части кеннинга присутствовала некая морская атрибутика, отсылающая к определенной денотативной сфере и позволяющая опознать в целом кеннинг корабля; в вепре же, волé или леопарде никакой специальной семиотики или геральдики в данном случае нет и в помине.
Такой виртуозный формализм, будучи однажды понят современным читателем, настолько его поражает, что заставляет забыть, что и в скальдическом произведении не во всех кеннингах царят тотальная демотивированность и условность. В известном смысле, шифр не везде устроен по одному принципу. Например, имеется кеннинг «горе змей» (snáka stríð), означающий зиму, где вполне есть смысловая связь и между компонентами, и между означаемым и означающим, а кеннинг «страж Греции и Гардов (т.е. Руси. — Ф. У.)» (Girkja vörð ok Garða) употреблен, скажем, в поэме по отношению к Христу, которому уподобляется не кто иной, как конунг Харальд Суровый, прославившийся своими подвигами именно в Греции и на Руси. Очевидно, что изолированное кеннингоподобное обозначение вроде «мухи победы» тем более допускает смысловую перекличку между компонентами и собственным означаемым. Какая же связь могла существовать между мухой, победой и стягом? Какие коннотации, помимо скорости, есть у слова fluga в скандинавской культуре и в какой ряд культурных ассоциаций сама муха может здесь встраиваться?
В саговом нарративе и за его пределами fluga зачастую непосредственно связана с ситуацией убийства и кровопролития, но отнюдь не так, как этого можно было бы ожидать, и вовсе необязательно именно с ними. В древнеисландском языке существует идиоматический ряд, целиком и полностью построенный на интересующем слове, а именно такое выражение, как taka við flugu («принять, поймать муху»), или синонимичный ему не менее выразительный оборот gína við/yfir flugu («проглотить муху»). Соответствующее же активное действие обозначалось как koma flugu í munn einhverjum («запустить кому-нибудь в рот муху»). Приведем лишь несколько примеров бытования этих идиоматических конструкций.
В «Саге о людях с Песчаного Берега» весьма подробно излагается история конфликта между тремя исландскими бондами — Торольвом Скрюченная Нога, обладавшим крайне злобным и буйным нравом, лишь усугубившимся под старость, его родным сыном Арнкелем, добропорядочным, успешным и радушным хозяином, ставшим одним из самых влиятельных людей в округе, и неким вольноотпущенником Ульваром, которого Арнкель на определенных условиях взял под свою защиту.
На очередном витке конфликта Торольв Скрюченная Нога, питавший особую неприязнь к Ульвару, задумал отомстить своему сыну за понесенные убытки и потерю рабов, которых Арнкель распорядился повесить после неудавшейся попытки поджечь хутор Ульвара вместе с его хозяином. Для этого Торольв отправился к своему другу Гильсу, обладавшему примечательным с точки зрения нашей работы прозвищем Ведун (Spágils), и предложил тому за три марки серебра убить Ульвара. Как поясняет составитель саги, «поскольку у Гильса Ведуна на попечении были малые дети и он испытывал нужду в деньгах, он ухватил эту муху (tók hann við flugu þessi) и засел под изгородью возле Ульваровой горы».
В другой саге — знаменитой «Саге о Ньяле» — некий Торд Вольноотпущенников Сын, который жил в семье Ньяля и Бергторы и был воспитателем их детей, убивает по распоряжению Бергторы человека по имени Брюньольв. Убитый был родичем одного из центральных персонажей саги — Халльгерд, жены Гуннара с Конца Склона, ближайшего друга Ньяля, и, хотя за погибшего немедленно была выплачена вира (т. е. формально конфликт был исчерпан, едва начавшись), Халльгерд воспылала желанием отомстить семье Ньяля. Для этого она обольстила Сигмунда, сына Ламби, родственника Гуннара, который вместе с приятелем, шведом по имени Скъёльд, гостил всю зиму на хуторе Конец Склона, и уговорила их напасть при удобном случае на Торда.
Вскоре случай представился. Сигмунд и Скъёльд вдвоем напали на Торда Вольноотпущенникова Сына, и в завязавшемся бою Торд погиб. Убийцы вернулись на хутор с рассказами о случившемся. Услышав это, Раннвейг, мать Гуннара и соответственно свекровь Халльгерд, сказала:
«Говорится, что недолго рука радуется удару. Так будет и в этом случае. Однако Гуннар на этот раз вызволит тебя. Но ежели Халльгерд еще раз удастся запустить тебе муху в рот (ef Hallgerðr kømr annari flugu í munn þér), тебе не сдобровать».
Гуннар узнает о произошедшем убийстве на тинге и немедленно отправляется к Ньялю. Друзья тут же договариваются о выплате большой виры, после чего Гуннар возвращается с тинга домой. При встрече с Сигмундом Гуннар долго укоряет его и наконец произносит:
«Неудачливый ты человек и дурным делам отдаешь себя. На этот раз я за тебя заплатил, но больше не позволяй запустить тебе муху в рот (ok skyldir þú nú eigi annarri flugu láta koma í munn þér). Ты не такой, как я. Ты часто насмехаешься и издеваешься над людьми. Я человек другого склада. Потому-то ты дружишь с Халльгерд, что у вас много общего».
Из приведенных коллизий видно, что эти идиомы употребляются в более или менее стандартных ситуациях, когда человека подстрекают или уговаривают совершить некий поступок или ряд поступков, в которых он изначально не заинтересован. Довольно часто — это убийство некоего лица, у которого с убийцей нет прямого конфликта, распри или личной неприязни. Однако порой в сагах подобные обороты встречаются в куда менее кровопролитных ситуациях, когда, к примеру, Демосфен, согласно «Саге об Александре», подстрекал жителей Афин не принимать Александра Македонского в качестве нового конунга, а они, в свою очередь, проглотили эту муху (oc þeir gina við þesse flugu), или человеку в Исландии отдавали на воспитание ребенка и тем самым втягивали во вражду между могущественными людьми.
Именно такова, в частности, предыстория распри, которая излагается в «Саге о Хёрде и островитянах», где женщина по имени Сигню вышла замуж за пожилого, богатого и могущественного Гримкеля Годи. Брак оказался неудачным, и в какой-то момент Сигню, будучи беременной, отпросилась у мужа погостить на семейном хуторе в Долине Дымов, у своего родного брата Торви. Здесь Сигню родила девочку и вскоре после родов скончалась, оставив младенца на руках у родичей. Торви, ненавидевший своего зятя Гримкеля, не решился лишить жизни новорожденную племянницу, поскольку, как сказано в саге, «умерщвлять ребенка, уже окропленного водой, считалось тогда убийством». Желая тем не менее избавиться от девочки и одновременно досадить Гримкелю, Торви отдал ее на воспитание в семью жившего подаянием бродяги по имени Сигмунд, поскольку считал это большим поношением для Гримкеля, а кроме того, был уверен, что Гримкель не станет мстить нищему.
Ничего не подозревавший Сигмунд стал обходить с ребенком наиболее зажиточные усадьбы, где ему теперь оказывали хороший прием как воспитателю дочери знатного годи, и добрался до хутора Гримкеля. Узнав, что его дочь находится на попечении бродяги, Гримкель по понятным причинам пришел в ярость и решил отомстить Торви. Однако он не оставил дочь у себя, велев Сигмунду немедленно убраться из его дома:
Пришлось им тут же уйти вместе с девочкой. Они (Сигмунд с женой. — Ф. У.) шли через Мыс Грима и через Купальную Долину и вовсе бросили заботиться о девочке, потому что они и не чаяли когда-нибудь сбыть ее с рук. Сигмунду казалось, что он заглотил муху (Þóttist Sigmundr nú yfir flugu ginit hafa), согласившись взять у Торви этого ребенка.