Можно ли быть расистом по отношению к белым людям
Фрагмент книги Яши Мунка «Ловушка идентичности»
rawpixel.com
В попытке возвысить голос против идеологии, набирающей силу в западных левых кругах и нацеленной на защиту отдельных угнетаемых меньшинств, американский политолог Яша Мунк написал книгу под названием «Ловушка идентичности». В ней он подверг критике «идентитарный синтез» — новую систему взглядов, требующую обеспечить каждому человеку соразмерную долю доходов и богатства на основании того, к какой этнической, религиозной, сексуальной и т.д. группе он принадлежит. О том, почему подобный подход не сближает, а безнадежно разделяет людей, читайте в отрывке из книги Мунка, который публикует «Горький».
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Яша Мунк. Ловушка идентичности. История об идеях и власти в наше время. М.: Individuum, Эксмо, 2025. Перевод с английского Дмитрия Виноградова. Содержание
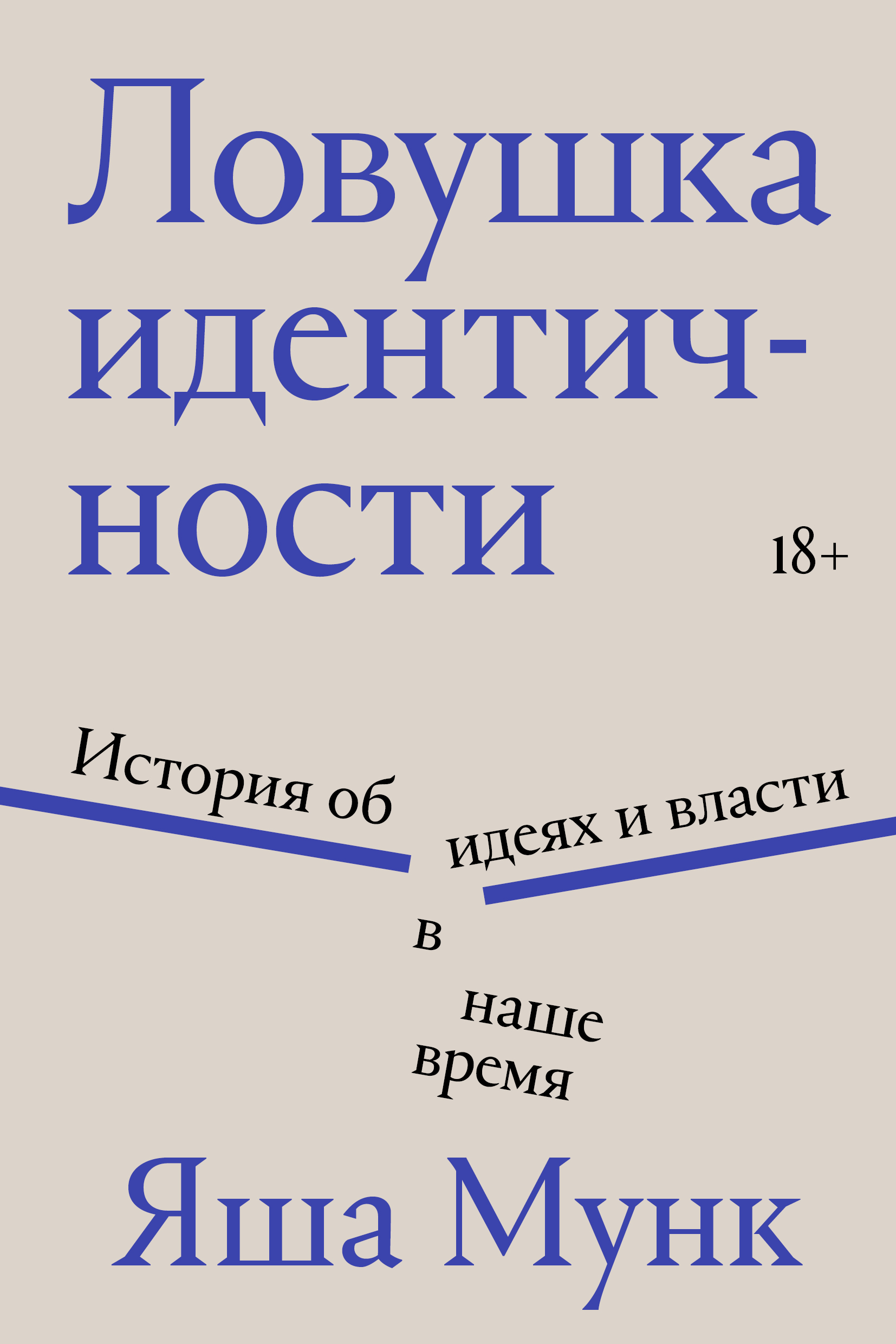
В предыдущих главах я описал, как идентитарный синтез проникает в современную культурную и политическую дискуссию и воплощается там в пяти разных формах. Я утверждаю, что он ошибочно призывает нас:
1. Отказаться от надежды на то, что представители разных этнических групп способны на искреннюю эмпатию друг к другу;
2. Усомниться в ценности культурного обмена между членами разных групп;
3. Закрыть глаза на опасные последствия отказа от подлинной культуры свободы слова;
4. Поддержать якобы передовую концепцию борьбы за справедливость — прогрессивистский сепаратизм, — который в действительности препятствует подлинной интеграции;
5. Сделать расово чуткую публичную политику стандартной практикой государственного управления.
В ответ я каждый раз предлагал решения, всерьез нацеленные на борьбу с укорененной несправедливостью, но при этом не отвергающие проверенные временем принципы универсализма. Люди способны на искреннее сопереживание, если найдут время и силы выслушать друг друга. С реальными проявлениями культурной эксплуатации и издевками над представителями других традиций можно бороться, не вешая на взаимовыгодный обмен клеймо опасной «культурной апроприации». Политики и лидеры крупных социальных институтов могут выражать пылкое несогласие с расизмом или другими формами предвзятости, не забывая про Первую поправку и культуру свободы слова. Можно уважать свободу ассоциаций и поддерживать чувство гордости за свое культурное наследие у представителей меньшинств, не попадая в тенета вредоносного прогрессивистского сепаратизма. Наконец, государство может защищать граждан от дискриминации и бороться с устойчивыми формами неравенства, не основывая свои инициативы на цвете кожи или других маркерах идентичности.
Темы, поднятые в этой книге, одновременно и важны, и злободневны. Однако поскольку сторонники идентитарного синтеза нацелились на пересмотр устоявшихся в демократических обществах подходов к целому спектру вопросов, влияние их идеологии этим далеко не ограничивается. В эту часть книги можно было бы с легкостью добавить еще глав пять.
Подробно разбирать каждое из возможных воплощений идентитарного синтеза было бы чересчур. Однако три из них особенно важны и заметны. На них нам стоит кратко задержаться. Вот что они утверждают:
1. Расизм не основан на индивидуальных мотивах или предрассудках;
2. Гендер во всех отношениях превалирует над биологическим полом;
3. От меритократии следует полностью отказаться.
Структурный расизм
Многие сторонники идентитарного синтеза справедливо указывают, что представление о расизме как о наборе индивидуальных убеждений или мотивов может привести к тому, что определенные формы дискриминации останутся незамеченными. Даже если каждый человек по отдельности будет действовать из самых лучших побуждений, отголоски исторической несправедливости все равно приведут к тому, что дети многих иммигрантов не смогут попасть в хорошие школы, а представители этнических меньшинств столкнутся с трудностями при аренде квартиры. Для описания этой несправедливости необходимо новое понятие: структурный расизм.
Вот какое определение Кембриджский словарь дает системному расизму (близкому по значению понятию): «нормы и практики, пронизывающие все общество или отдельную организацию, которые на основании расы создают и закрепляют несправедливое преимущество одних, а другим причиняют вред и дискриминируют» . Если признать, что определенные формы расизма являются «структурными», можно точнее описать — а возможно и устранить — те серьезные трудности, с которыми представители определенных рас сталкиваются по причинам, не вызванным предрассудками отдельных людей.
В последние десять лет приверженцы идентитарного синтеза заявляли, что это новое понятие — структурный расизм — в сущности делает совершенно ненужным прежнее представление о расизме индивидуальном. Отказавшись признавать, что существует два вида расизма, каждый из которых заслуживает отдельного внимания и противодействия, они начали рассматривать расизм исключительно как структурное явление. Как сказано в одной интернет-памятке, «расизм отличается от расовых предрассудков, ненависти или дискриминации» тем, что он обязательно подразумевает наличие «одной группы, использующей власть для реализации системной дискриминации посредством институциональных мер и общественных практик, а также формирующей культурные убеждения и ценности, поддерживающие эти расистские меры и практики».
В наиболее радикальном понимании эта точка зрения, постепенно становящаяся чуть ли не общепринятой, явным образом подразумевает, что представитель исторически маргинализированной группы не может быть расистом по отношению к представителю исторически доминирующей группы. Поскольку расизм никак не зависит от убеждений отдельного человека, а члены сравнительно ущемленных групп не способны осуществлять «систематическую дискриминацию» против членов более влиятельных групп, некоторые даже наиболее вопиющие проявления ненависти не могут считаться расизмом. Как выразилась Маниша Кришнан в журнале Vice: «Быть расистом по отношению к белому человеку в буквальном смысле невозможно».
В результате когда некоторые представители меньшинств раз за разом выражают ксенофобские взгляды в адрес предположительно более привилегированных групп, а иногда и других меньшинств, это считается нормальным. Например, когда одну из основательниц «Женского марша» Тамику Мэллори раскритиковали за то, что она хвалебно высказалась в адрес открытого антисемита (а также гомофоба и женоненавистника) Луиса Фаррахана, назвав его «величайшим человеком», в качестве оправдания она просто заявила New York Times, что «белые евреи, как и все белые люди, поддерживают превосходство белых».
Отказ признавать значимость более традиционного понимания расизма имеет серьезные последствия. Например, он делает невозможным точно обозначить ситуацию, когда члены одной группы меньшинств становятся жертвами преступлений на почве ненависти, совершенных представителями другой, исторически более маргинализированной, группы меньшинств. В США, например, американцев азиатского происхождения нередко считают более «привилегированными» (а порой даже «приближенными к белым»), чем афроамериканцев. В результате ведущие СМИ крайне неохотно освещали преступления на почве ненависти, совершенные афроамериканцами против американцев азиатского происхождения во время пандемии COVID-19, лишь изредка называя такие нападения расистскими. Это затруднило борьбу с подобными преступлениями и усилило напряженность между вовлеченными группами.
Пол, гендер и споры о правах трансгендерных людей
Дискуссия о поле, гендере и правах трансгендерных людей подвержена схожей концептуальной путанице. […] (согласно статье 20.3 КоАП РФ запрещены пропаганда и публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; в январе 2024 года вступило в силу решение Верховного суда РФ о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией — Прим. ред.)
Лучший способ справиться с подобными ситуациями — признать, что речь идет о реальном конфликте обоснованных интересов между двумя группами. Чаще всего это понимание позволяет найти разумные компромиссы, учитывающие достоинство и потребности обеих сторон. Однако добиться этого невозможно, если больницы, спортивные лиги или администрации тюрем будут настаивать, что биологический пол — это угнетающий социальный конструкт, который нельзя принимать во внимание при принятии решений.
Меритократия
На протяжении веков Америка привлекала иммигрантов верой в то, что в этой стране даже самый заурядный мойщик посуды может стать миллионером. Но если американская мечта и укоренилась в массовом сознании, во многом это произошло потому, что в Соединенных Штатах достойно могут жить даже те, кто не добрался до вершины. Сегодня оба этих обещания все больше начинают казаться пустыми. В современной Америке мойщику посуды уже вряд ли светит стать миллионером, а уровень финансовой защищенности простых официантов и рабочих существенно упал. За последние три десятилетия доходы большинства американцев практически не выросли, тогда как стоимость жилья, образования и медицинских услуг увеличилась в разы. Для многих американцев без высшего образования поддерживать достойный уровень жизни стало непросто.
В эпоху, когда социальная мобильность постепенно снижается — не только в США, но и в Канаде, Великобритании и других демократических странах, — многим вполне закономерно начинает казаться, что положения меритократии могут служить оправданием несправедливой социальной иерархии. В результате авторы и политики, представляющие самые разные идеологические традиции, начали выступать с резкой критикой идеалов меритократии. Заголовок нашумевшего интервью с профессором права Йельского университета Дэниелом Марковицем, например, уже говорит сам за себя: «Меритократия вредит всем». А философ Майкл Сэндел в своей книге «Тирания заслуг» высказывает мнение, что «даже справедливая меритократия… создает ложное впечатление, что мы добились всего сами». Чтобы избавиться от ее тирании, необходимо осознать, что «идеал меритократии — это не лекарство против неравенства, а его оправдание».
Особенно ополчились на меритократию сторонники идентитарного синтеза. «Объективной истины, как и объективных заслуг, не существует», — замечают Ричард Дельгадо и Джин Стефанчич в своей влиятельной книге «Критическая расовая теория: Введение». Нетрудно догадаться, какой шаг следует за этой предпосылкой: как утверждается в недавней статье в American Journal of Public Health, «обещание равенства, основанного на меритократической идеологии, лишь скрывает расизм». В своей наиболее радикальной форме такая критика доходит до утверждения, что сам по себе принцип меритократии является расистским, поскольку способствует углублению расовых различий. Как выразился один бизнес-консультант, применение расово-нейтральных стандартов под прикрытием ценностей меритократии при отборе кандидатов на работу может казаться «заведомо беспристрастным подходом», но на деле он «абсолютно расистский».
Недостатки нашей существующей системы, относительно приближенной к идеалам меритократии, действительно дают веские основания поверить в необходимость перемен. Сэндел, например, справедливо отмечает, что во многих демократических странах, включая Великобританию и США, дети состоятельных родителей с самого рождения получают значительное преимущество, после чего их успех подается как заслуженный, приводя к тому, что они и сами начинают верить, будто бы добились всего исключительно благодаря усердному труду и выдающимся способностям. Чтобы у всех людей был шанс на достойную жизнь, необходимо, чтобы благополучие не оставалось уделом лишь тех, кто сумел прорваться к вершине. В справедливом обществе любой, кто трудится честно, должен иметь возможность жить в комфортных условиях, пользоваться качественной медицинской помощью и обеспечивать своим детям хорошее образование. И, разумеется, если мы действительно стремимся к равенству и демократии, ни доступ к образованию, ни продолжительность жизни не должны зависеть от цвета кожи.
Даже если нам удастся радикально изменить экономическую систему, в обществе все равно останутся позиции, сулящие больше материальной выгоды и привилегий, чем остальные. На каком основании их следует распределять? Для ответа на этот вопрос меритократия, пожалуй, худшая из возможных систем — за исключением всех остальных.
Одна из ключевых причин придерживаться хотя бы базовых принципов меритократии — сохранение стимулов для молодежи развивать социально значимые навыки. Во многих странах у людей нет особого повода учиться или стремиться к успеху, поскольку продвижение в обществе зависит в первую очередь от власти и связей. В таких условиях таланты развиваются реже, а экономика растет со скоростью улитки. Напротив, если заслуги вознаграждаются, у молодых людей появляется стимул вкладывать время и усилия в развитие своих способностей. Это не только обеспечивает общество достаточным числом врачей, инженеров, мастеров и сантехников, но и дает гораздо большему числу людей удовлетворение от того, что они смогли овладеть профессией, которой посвятили годы труда.
Еще один довод в пользу меритократии — необходимость честных и обоснованных решений со стороны социальных институтов в отношении тех, кто не получил желаемую позицию. Представьте, что вы пробуете себя в спортивной команде, но не проходите отбор. Насколько справедливым кажется такое решение, во многом зависит от его причины. Если тренер объяснит, что другой игрок принесет команде больше побед, это будет оправдано целями конкретного социального института. Но если вам скажут, что выбрали не вас, потому что у конкурента больше денег, полезные связи или подходящий цвет кожи, у вас будут все основания почувствовать себя обманутым.
Глядя на сегодняшние Великобританию и США, можно подумать, что меритократия завела эти страны в тупик. Но на самом деле наоборот: скорее дело в предательстве принципов меритократии. Обоснованные стремления миллионов людей остаются нереализованными, потому что слишком немногие могут рассчитывать на материальное благополучие, а привилегированные позиции распределяются вовсе не на меритократических основаниях. Проблема не в том, что Британия и Америка слишком меритократичны — а в том, что они недостаточно меритократичны.
В первых трех частях книги я рассказал про истоки идентитарного синтеза, показал, как из маргинальной концепции он превратился в влиятельную идеологию, и критически оценил наиболее важные аспекты его влияния на общепринятые культурные и политические нормы. Кроме того, я заложил основу для системного ответа на каждый из его ключевых постулатов. В последних шести главах я продемонстрировал, как сторонники универсалистских ценностей могут осмыслять и преодолевать несправедливость, на которую указывают защитники идентитарного синтеза, не поступаясь своими ценностями.
Моя критика распространенных взглядов на такие важные темы, как культурная апроприация или меритократия, может служить примером аргументированной оппозиции идентитарному синтезу. Важно серьезно относиться к тем проблемам, которые подчеркивают его сторонники; обнажать логические несостыковки и практические трудности, которые влечет за собой их подход; и показывать, что универсалистский подход способен точнее выявлять проявления несправедливости и предлагать более действенные способы их устранения. В оставшейся части книги я буду опираться на эту основу, чтобы детально показать, как выбраться из ловушки идентичности.
Ключевые выводы:
• Структурный расизм дополняет наш понятийный аппарат, служащий описанию реальной несправедливости, справедливо указывая на тот факт, что формы расовой дискриминации могут не зависеть от негативных взглядов отдельных людей на группы меньшинств. Однако сторонники идентитарного синтеза ошибаются, утверждая, что новый взгляд на расизм должен вытеснить более ранние представления о нем. Представители маргинализированных групп тоже могут иметь опасные предрассудки против групп, которые считаются сравнительно более «привилегированными». Неспособность признать это мешает нам понимать реальность и бороться с определенными видами преступлений на почве ненависти.
• Некоторые люди ощущают, что […] (согласно статье 20.3 КоАП РФ запрещены пропаганда и публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; в январе 2024 года вступило в силу решение Верховного суда РФ о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией — Прим. ред.)
• Для многих людей социальная мобильность перестала быть реальной возможностью. В такой ситуации заманчиво возложить вину на меритократию, обвинив ее в укреплении несправедливого общественного устройства. Однако такой путь лишь приведет к катастрофическим последствиям. Если позиции власти будут занимать не те, кто более всего их заслуживает, а некомпетентные люди, уровень благосостояния общества снизится, а у большинства пропадет стимул развивать свои способности. Более разумный подход — сохранить приверженность меритократии и обществу равных возможностей, в котором даже те, кто не занимает самых престижных и прибыльных позиций, все равно могут вести достойную жизнь.
• Критический разбор основных воплощений идентитарного синтеза в третьей части этой книги предлагает модель того, как противодействовать подобным теориям. Главное здесь: серьезно отнестись к проблемам и несправедливости, которые лежат в основе этих позиций; показать, в чем ошибочны предлагаемые решения; и доказать, что универсалистский подход способен эффективнее справляться с этими вызовами, чем новые модные концепции, основанные на идентитарном синтезе.