Мой первый бой
Фрагмент книги Теодора Шанина «Стать Теодором: от ребенка войны до профессора-визионера»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Теодор Шанин. Стать Теодором: от ребенка войны до профессора-визионера. М.: Новое литературное обозрение, 2024. Содержание
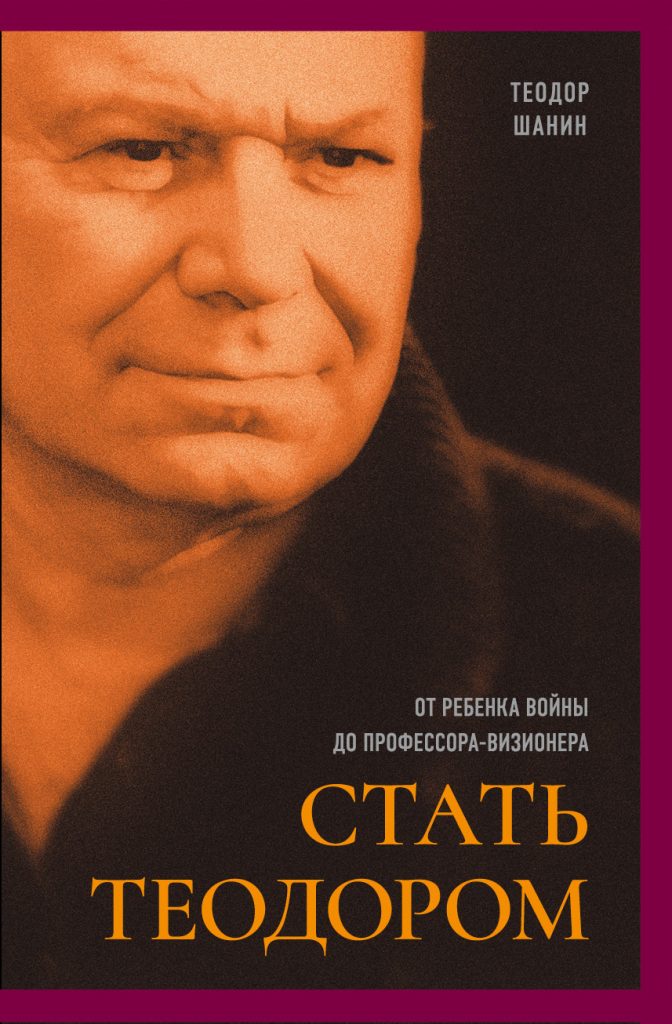 Самым трудным звеном борьбы на Иерусалимском фронте стали бои за Латрун. До времени создания государства Иерусалим был в большой мере окружен. Снабжение города осуществлялось конвоями, которые с большим трудом и немалыми потерями пробивались в город с прибрежной полосы сквозь территорию десятков палестинских сел. Эти конвои состояли в большой мере из солдат моей бригады Харель.
Самым трудным звеном борьбы на Иерусалимском фронте стали бои за Латрун. До времени создания государства Иерусалим был в большой мере окружен. Снабжение города осуществлялось конвоями, которые с большим трудом и немалыми потерями пробивались в город с прибрежной полосы сквозь территорию десятков палестинских сел. Эти конвои состояли в большой мере из солдат моей бригады Харель.
Поражения первых дней войны были очень серьезными, но главной проблемой оставался Латрун. Это место находилось в центре шоссе Тель-Авив — Иерусалим, там, где приморские долины переходят в иерусалимские горы. На этом взгорье находились тогда четыре небольших арабских села, монастырь траппистов и позиции Арабского легиона: их батареи, орудия и окопы. В наших рядах считалось, что Латрун надо обязательно взять, чтобы открыть дорогу на Иерусалим. Это виделось как важнейшее дело, определяющее будущее Израиля. Война решается не только военной силой — потеря Иерусалима означала бы конец надежд на выживание еврейского государства. Дальше остатки Израиля могли бы быть прижаты к пляжам Средиземного моря, что привело бы к концу «сионистский эксперимент».
Незадолго до перехода войны на новый этап, связанный с официальным ее началом, произошел эпизод, особо трагический для израильтян. Верховное командование израильской армии собрало кулак сил, в основном полдюжины самодельных броневиков и новую бригаду из свежеприбывших из Европы, — и кинуло их на Латрун. День решающего боя встретил их хамсином — зверской жарой. Они врезались в готовый к бою Легион и его орудия. В полдень у них кончилась вода. Солдаты Арабского легиона держались крепко, а израильтяне начали откатываться с тяжелыми потерями — некоторые падали в обморок из-за жары. Из атакующей бригады осталось мало бойцов, способных продолжать бой, а Латрун так и не был взят. Вместо повторяющихся ударов в лоб была найдена новая дорога в Иерусалим через горы, что решило вопрос обеспечения города в обход Латруна. Транспорт пошел этой дорогой, вдоль которой была проложена труба для доставки воды.
Атаки продолжались, но Латрун оставался костью в горле. После взятия Цубы наш батальон был двинут в атаку на село Ялу — одно из четырех поселений Латрунского взгорья. Это был мой первый бой и первое поражение в бою. Целью было отрезать село от других позиций Легиона и в который раз попробовать открыть дорогу на Иерусалим. При мне шел спор о том, стоит ли утяжелять движение, взяв с собой наше главное антибронетанковое оружие тех времен — «Фьяты». В этом споре победил задор, и мы ушли в бой без него. План был прост: согласно ему, первая рота двинулась вперед, а моя вторая рота залегла на подходе. После захвата села Ялу мы должны были пройти через него и двинуться дальше с целью отрезать Латрун от главных баз Арабского легиона.
Мы ждали. Перед нами открылась необыкновенная световая картина. По нам стреляли фосфорными пулями, и мы видели, как они пролетали меж нас и над нами роем золотых пчел. С обратной стороны взлетали десятки осветительных ракет разных цветов. Беспрестанно двигались многоцветные тени скал. «Как красиво», — сказал я соседу, и он быстро взглянул мне в лицо: не начинаю ли я биться в истерике от этой феерии и тяжелого огня. Так продолжалось несколько часов. И вдруг: «Бегом, бегом вперед! Первая рота в беде! Нужна немедленная помощь». Мы кинулись вперед и встретили то, что оставалось от первой роты. Было много раненых и тех, кто их нес. Мы взяли на себя огонь, прикрывая их отступление.
Позже нам рассказали, что произошло. Сплоховала наша разведка. Во время перемирия Легион построил незаметно для нас новую дорогу, и теперь по ней поднялись навстречу нашей роте броневики Легиона. Они открыли шквальный пулеметный огонь, а у наших не было антибронетанкового оружия. Стреляли — как камни бросали об стену. Их радист получил пулю в горло в минуту, когда пробовал сообщить командованию батальона о надвигающейся беде. Он упал среди скал, и в темноте его и его рацию долго не могли найти. Вскоре первая рота перестала существовать как сила, способная продолжать бой.
Мой взвод отступал медленно, цепляясь за скалы, — надо было дать время вынести раненых первой роты. Ночь превратилась в день, и зверская жара сделала отступление особенно мучительным. Мы шли и шли среди жгучих скал по высохшему узкому руслу реки («вади» — по-арабски). Наши фляги с водой мы отдали раненым, и нас теперь мучила природа. Страшно хотелось пить.
Наконец мы вышли на Иерусалимское шоссе, где нас ждали машины с водой. Я ухватился за ведро и пил воду, частично выливая на себя остаток. И вдруг услышал голосок, очень серьезный, очень чиновный: «Нельзя пить так много, это вредно». Я поднял глаза: молодой человек в хорошо отглаженном и очень чистом мундире, который, по-видимому, прибыл с машинами. Я продолжил пить. Голосок прозвучал опять: «Им говорят, что надо пить медленно, а они даже не обращают внимания». Я опустил ведро и покрыл его русским матом, которого никто, кроме меня, не понимал. Он отшатнулся — не от мата, но, думаю, от моих глаз.
Машины перебросили нас на всего-то несколько сот оставшихся метров — сил не было совсем. Мы свалились полумертвыми в палатках в бывшем арабском селе Сарис. Но молодость означает быструю регенерацию сил. Через несколько часов мы начали приходить в себя. Далее я услышал голос нашего командира роты: «К темноте мы атакуем Бейт-Нуба — сельцо с другой стороны Латруна. Цель — расплатиться за поражение в Ялу и опять ударить по Латруну, чертов Латрун. Понятно, что не каждый сможет двигаться. Есть те, кто особо пострадал в этот день или с непривычки натер ноги. Поэтому выходить будут только добровольцы!» Я поднял руку.
В наступающей темноте мы вышли в путь. Продвигались примерно пятьдесят человек — несли с собой два чешских станковых пулемета (BESA). Тихое движение сквозь ночь. Голоса арабских пастухов, которые перекликались, сообщая друг другу, что «евреи идут» (нам переводили иракские евреи в наших рядах). К утру мы вышли на холм, возвышающийся над шоссе из Рамаллы в Латрун. Перед нашими глазами двигались машины противника — как военные, так и гражданские. Возможности нашего появления никто не предполагал — это как будто бы на главном шоссе Тель-Авив — Хайфа появился отряд арабских легионеров. Мы установили тяжелые пулеметы и открыли огонь. На шоссе заметались, машины валились в кювет, с них сыпались люди, слышались взрывы. Дальше по нам ударила батарея орудий из Латруна, а вскоре за этим машины перебросили пехоту. Началась их атака — мы густо стреляли. Они откатились и через некоторое время вернулись к атаке. День прошел таким образом: их артиллерийский обстрел и атаки пехоты перемежались. Мы упрямо держались холма, где начали бой. Мы были плотно окружены, отступать было некуда, что упрощало выбор.
Ночью к нам подошла подмога с приказом нас сменить. Их было больше, чем нас, раза в два или три. Кто-то разобрался в размерах нашей удачи. Это был комплимент своего рода. И победа.
***
Когда мы готовились выходить в горы, к нам подошел высокий рыжий парень. Он сказал, что он из пятого батальона нашей бригады, возвращается из больницы и ждет попутной машины, чтобы добраться до своих. Назвал себя: Давид. Услышав, куда мы направляемся, сказал: «Интересно, возьмите меня с собой». Наши офицеры ответили, что не время вводить в ряды нового человека. Мы уже спелись, гладко работаем вместе, а чужой этому может помешать. У Давида был ответ и на это. Он предложил идти с нами как грузчик (а этого все солдаты не любят). Пулеметы прожорливы, придется нести много амуниции. Так и договорились, его пристроили как грузчика. Когда мы дошли до холма Бейт-Нуба, он, отдав боеприпасы пулеметчикам, присоединился к моему взводу и залег вместе с нами, когда мы отбивались от атак.
К концу второй атаки мы услышали вводящий всегда в дрожь выкрик: «Ховеш!» («Санитар») — и наш «медик» побежал туда. Санитары были в каждом взводе, они несли бандажи и прочее — это были обычные вооруженные бойцы, прошедшие двухнедельный курс первой помощи. Давид получил пулю в шею. Кровь лилась потоком. Думаю, что его можно было бы спасти, но только не нашлось никаких медицинских инструментов для этого, а мы были отрезаны. Он умер там, а нам пришлось приводить в чувство парня, который лежал вместе с ним в одном окопе. Тот был моего возраста, и это был его первый бой. Его залило кровью Давида, он плакал и бессвязно говорил о том, что хочет домой.
У этого рассказа была довольно страшная для меня концовка. Бои прекратились быстро, я оказался в Тель-Авиве в коротком отпуске, который нам давали по такому случаю. Я был у знакомых, и, как всегда, меня расспрашивали про то, где я был, где воевал. Увидев на мне знак Пальмаха, стареющий молчаливый мужчина, который гостил у них, начал меня расспрашивать, встречал ли я людей из пятого батальона. Я сказал, что вообще-то нет, но встретил только одного, его звали Давид, он был рыжий, высокий и погиб около меня за день до второго перемирия. Мужчина, который меня расспрашивал, медленно и тихо упал в обморок. Он оказался отцом единственного сына — Давида. Он уже знал о несчастье, но шок от моих слов был силен. И не в последний раз я почувствовал себя виноватым за то, что остался жив.
***
С нами были наши девушки. В начале войны они выходили вместе с нами в бой. Но ко времени, когда я пришел в Пальмах, это уже запретили, потому что девушки могут попасть в плен и быть изнасилованы. Когда у нас случалось что-то серьезное, это правило менялось. В бою около Ялу, когда мы отступали сухим руслом речки, мы увидели вдруг дюжину наших вооруженных девушек. Они поднялись на холм выше нас и заняли позиции, которые не дали бы Легиону вцепиться нам в хвост.
Это были очень красивые девушки — и душой, и телом. Наши отношения с ними были хорошими — такой союз братьев и сестер. Романтические отношения были, но мало сексуальных, и в этом было что-то возвышенное. Мне это особенно подходило, потому что я был романтического склада ума. Быть может, компенсировал этим нехватку зрелости.
Павел
Еще один рассказ из нашего боя под Латруном. В бою горьковатая правда не раз выражается на личном уровне. Одного из бойцов моего взвода звали Павел. Он пришел в батальон с группой из кибуцев. Не отличался ничем, кроме, быть может, большой физической силы, которую любил демонстрировать. В суматохе боя около Ялу, когда мы кинулись помогать первой роте и позже прикрывали ее отступление, мы не заметили вначале, что Павел движется без винтовки. Среди неформальных заветов Пальмаха была абсолютная обязанность: вынести свое оружие из боя. По-видимому, это были остатки времен нелегальщины, когда за оружие приходилось платить кровью. Когда товарищи Павла сообразили, что произошло, весь взвод собрался было возвращаться искать чертову винтовку, но было поздно. Взбадриваемые окриками командиров, мы продолжали отступать — угрюмо, упрямо и медленно.
Павел не пошел с нами в Бейт-Нуба. Когда бои утихли, товарищи Павла собрались судить его. Нам было ясно, что мы не отдадим его формальному полевому суду. Решили, что виноват, а в наказание запретили ему выходить в бой. О таком мечтали бы многие солдаты всех времен и армий, но не у нас. Решение потрясло многих, но командир батальона негласно утвердил его.
Павел был переведен в обслуживание кухни вместе с некоторыми из наших девушек. Когда его товарищи по кибуцу сообразили всю экстраординарность и ужас такого наказания, они начали осаждать всех нас просьбами сменить его наказание на что-то менее обидное. Но им не удалось нас уговорить. Потом, когда наши цепи уходили в ночь, Павел стоял как немой укор у входа в палатку и смотрел нам вслед. Он очень опустился, не брился, не мылся, ни с кем не говорил.
***
Но это не конец рассказа, а его стоит досказать. Война кончилась, и мы разъехались по городам и весям. Павел исчез куда-то.
Уже в мирное время, годом позже, забастовал профсоюз моряков Израиля — единственный независимый тогда левый профсоюз в конфедерации Истадрут. Правительство решило разогнать «бунтовщиков», переломив их упорство, и послало против них полицейские части (среди которых с британских времен было немало арабов и друзов, еще не говоривших на иврите и не понимавших, из-за чего происходит забастовка). Моряки оккупировали свои корабли, отказываясь сойти на берег. Телевидение показало, как полицейские силой стаскивают бастующих с кораблей. Прозвучал призыв к бывшим членам Пальмаха провести демонстрацию в защиту моряков, многие из которых были в свое время в Пал-Яме — нашем морском спецназе.
Правительственные решения, связанные с этим делом, оказались крайне не популярны также среди членов правительственной Мапай. На собрании Мапай, проводимом для «объяснения происходящего», произошла драка. Туда явились и мы — члены Молодой гвардии партии Мапам, о которой расскажу далее. Нас атаковали охранники Мапай, и им в помощь прибыла полиция. Взят под стражу был и я с товарищами. Среди тех, кто нас арестовывал, я распознал Павла в новом сержантском мундире полиции, на котором красовался знак Пальмаха. Увидев меня, он отпрянул, словно обжегся, и удрал в коридоры полицейского отделения. Вслед ему я бросил: «Жулик! Ты бы снял знак Пальмаха».