Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Антон Секисов. Зоны отдыха. Петербургские кладбища и жизнь вокруг них. СПб.: Все свободны, 2023. Содержание
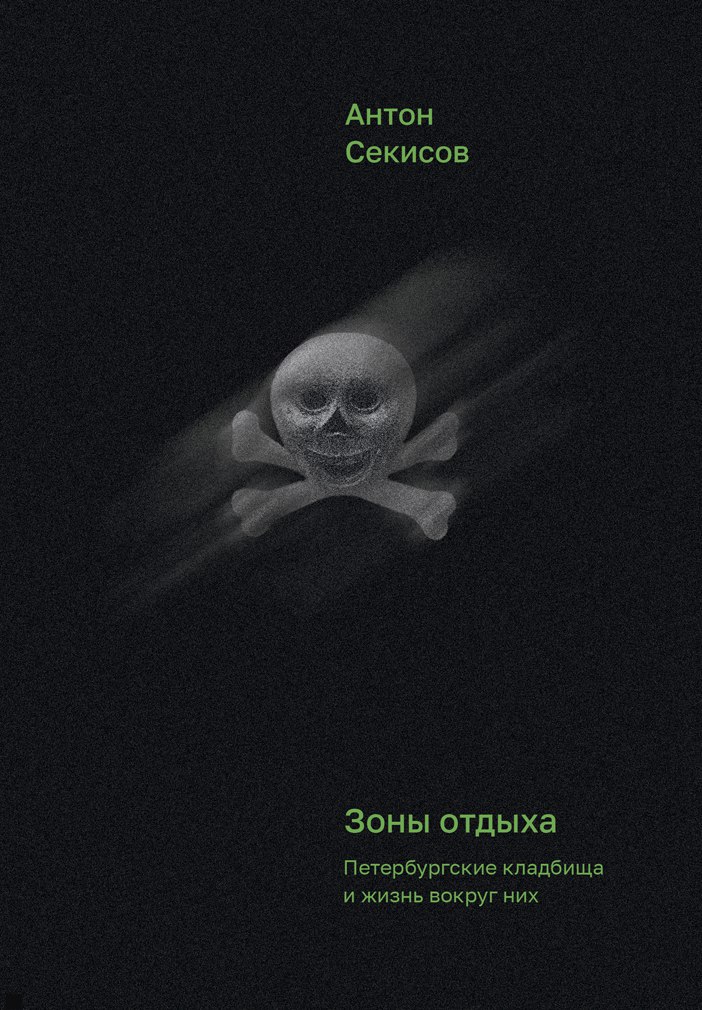 Лучшие события в жизни происходят вопреки нашим планам, и самые запоминающиеся походы на кладбища тоже спонтанны. Проходя мимо Витебского вокзала, я заметил мужчину с заостренными, как будто наэлектризованными усами, который напомнил поэта Иннокентия Анненского. Анненский скончался как раз тут, на Витебском, бывшем Царскосельском вокзале в 1909 году, и я подумал: почему бы не навестить его могилу.
Лучшие события в жизни происходят вопреки нашим планам, и самые запоминающиеся походы на кладбища тоже спонтанны. Проходя мимо Витебского вокзала, я заметил мужчину с заостренными, как будто наэлектризованными усами, который напомнил поэта Иннокентия Анненского. Анненский скончался как раз тут, на Витебском, бывшем Царскосельском вокзале в 1909 году, и я подумал: почему бы не навестить его могилу.
Анненский умер в 54 года, от паралича сердца. Он очень болел и рано состарился, но молодился изо всех сил. Вот характеристика от поэта Волошина: «Хотелось сказать: „Как он моложав и бодр для своих 65 лет!“, а ему было на самом деле около пятидесяти».
Анненский всегда крепко душился, носил только крахмальное белье и белоснежные сорочки. Тут, на Царскосельском вокзале, легко представить, как он вылезает из брички, как торопится к двери с табличкой WC, наступая на полы своей превосходной шубы, и вдруг замирает и валится на ступеньки, до последнего сжимая портфель с рукописями (среди прочих — материалы к докладу о Еврипиде). Вероятно, Анненский отправился на вокзал потому, что ему приспичило в туалет. Перед этим он сидел в гостях у знакомой: там ему стало дурно. Поэту потребовалась уборная, но вокруг были только дамы, и он постеснялся спросить, где она. Вот и пришлось гнать на вокзал, несмотря на приступ. Получилась безупречная интеллигентская смерть.
Во многом с подачи Анненского на рубеже XIX и XX веков случилось нечто вроде ривайвала античной трагедии. Русский читатель знает Еврипида в версии Анненского. Как пишет Михаил Гаспаров, «Еврипид у Иннокентия Анненского томен и болезнен, как салонный декадент». Тот же Гаспаров берется утверждать, что все стихи Анненского, которыми мы так восхищаемся, «были писаны лишь для отвода души в промежутках работы над Еврипидом».
Мало того что Анненский перевел Еврипида, он сочинил и четыре своих драмы в античном духе: «Меланиппа-философ» (1901), «Царь Иксион» (1902), «Лаодамия» (1906) и «Фамира-кифарэд» (1906).
Мое любимое стихотворение Анненского — конечно, про похороны:
Под гулы меди — гробовой
Творился перенос,
И, жутко задран, восковой
Глядел из гроба нос.
Дыханья, что ли, он хотел
Туда, в пустую грудь?..
Последний снег был темно-бел,
И тяжек рыхлый путь,
И только изморозь, мутна,
На тление лилась,
Да тупо черная весна
Глядела в студень глаз —
С облезлых крыш, из бурых ям,
С позеленевших лиц...
А там, по мертвенным полям,
С разбухших крыльев птиц...
О люди! Тяжек жизни след
По рытвинам путей,
Но ничего печальней нет,
Как встреча двух смертей.
Улица Гумилевская
От станции Царское село до кладбища добраться попроще, но поезд проносится через нее с коварной поспешностью. Я слишком поздно встаю с сиденья, и двери захлопываются перед носом. В этом нет ничего страшного — судя по карте, от следующей станции, Павловска, до кладбища такое же расстояние, как и от Царского села.
Однако же я выбираю самый неудачный маршрут, прельстившись названием улицы — Гумилевская.
Гумилевская улица — просто раздробленная дорога посреди поля. Повсюду мусор и вонь, и все посыпано пылью. Но непонятно, кто способен эти мусор и вонь производить, — вокруг ни домов, ни людей, ни машин. Только растения с совершенно стершимися чертами: как будто я наблюдаю пейзаж в компьютерной игре 90-х годов. Запах влажной гнили намекает на близость некоего водоема, но никаких водоемов в окрестностях не наблюдается.
Позже я разузнал, что прежнее название Гумилевской улицы — Полевая. Неудивительно, ведь кроме поля тут буквально ничего нет. При этом в Пушкине уже существовала другая улица Полевая, всего в одном километре к северу. Но инертность и леность ума местных чиновников позволила просуществовать одноименным улицам многие десятилетия.
Яндекс-карты показывают, что нужно идти направо, но поворота направо нет, и я иду дальше. Должен сделать ремарку, что мне, как и Анненскому, не довелось навестить вокзальный WC — он был закрыт на уборку. Я думал, что это к лучшему — люблю обделывать такие дела на природе, но ситуация сложилась не в мою пользу: в кустах меня ужалило какое-то насекомое, а ведь у меня очень нежная кожа. И сразу же по всему телу выступила аллергия. Я шел и чесал ноги, руки и голову, начались проблемы с дыханием, вдобавок жара.
У поэта Анненского тоже была нежная кожа. Все, кроме накрахмаленного белья, вызывало невыносимый зуд. Анненский вообще отличался невероятной чувствительностью. При этом выбрал себе в жены, судя по воспоминаниям современников, вульгарную и бесчувственную особу. Однажды после очередного пассажа жены, поразившего всех своей пошлостью, Анненский завалился на пол и стал задыхаться. Было ясно, что он умирает. Жена, видимо, была не настолько глупа, как полагают некоторые, потому что воскликнула: «Срочно снимите с него кольцо!». Стоило стянуть с пальца Анненского обручальное кольцо, как приступ сразу же прекратился.
Тут я замечаю на горизонте живых существ. Их сразу двое — женщина и собака на поводке. Откормленный бультерьер. А дама похожа на Патти Смит: сушеная мумия с лохматой шевелюрой. Я приближаюсь к ним, не переставая по-обезьяньи чесаться. Уточняю у дамы, как мне пройти на старое кладбище.
Женщина какое-то время молчит, а потом начинает хихикать. Вообразите себя одинокой дамой на пустыре. Вокруг ни души на несколько километров. У вас на поводке пес, формально даже бойцовой породы, но до того холеный и жирный, что толку от него меньше, чем от левретки. И вот из ниоткуда появляется мужчина, вычесывающий себя до крови. Он бормочет что-то про кладбище. Неужели вам не станет хотя бы немного не по себе? Но женщина не паникует, а ухахатывается, да еще и бьет себя рукой по колену, настолько все это, по ее мнению, смешно. Ситуация становится подозрительной. Я понимаю, что если незнакомая дама не паникует, то паниковать следует мне.
Не переставая посмеиваться, она объясняет, что кладбище недалеко, и сейчас она меня проведет. Я говорю, что не стоит. Нет-нет, смеется она, вы сами не доберетесь. Мы идем вместе, а эта дама бормочет о том, что, помимо кладбища, мне следует насладиться развалинами какого-то завода. А мне не дает покоя вопрос, откуда она вообще тут взялась, эта женщина с псом, на пустыре, вдали от цивилизации и равно транспорта, который может ее к этой цивилизации доставить. Вдруг пес садится на задницу и напрочь отказывается идти. Женщина тянет его за поводок, но пес упирается.
— Ну и хитрец, — качает головой дама.
— Наверное, устал?
— Просто не хочет на кладбище! — говорит дама, продолжая посмеиваться. От смеха у нее раздуваются ее огромные, широко раскрытые ноздри.
Похоже, пес скорее лишится кожи на заднице, чем двинется хоть на метр в сторону кладбища. А женщина, кажется, готова бросить пса, только бы отвести меня к могилам. Я пользуюсь заминкой и кричу ей прямо в разверстые ноздри, что тороплюсь. Хотя я уже на последнем издыхании, но перехожу на бег, и скоро дама и пес скрываются за поворотом.
Сбежав, я понимаю, что наша встреча произошла на перекрестке — на пересечении бетонной дороги и тропинки. Обе, как кажется, тянутся из ниоткуда и ведут в никуда. Все это наводит на мысли туманно-мистического характера.
Гумилевскую улицу сменяет промзона. Появляются строения и машины, но людей по-прежнему нет. Какую же я предпринял глупость! Не нужно было идти на поводу у литературоведческого зуда, а идти в Екатерининский парк, смотреть на дворцы и туристов. Что я скажу людям? Съездил посмотреть Царское село: увидел пустырь, помойку и ржавый гараж.
Но, пройдя еще метров 500 вдоль трассы, я наконец-то увидел Казанское кладбище.
«Сижу в углу дивана, слушаю оживленную беседу Анненского с Блоком и не предчувствую, что через три месяца, всего через три коротких месяца, жилищем вдохновенного Иннокентия Федоровича станет поэтическое царскосельское (ныне Казанское. — Авт.) кладбище», — вспоминает мемуарист Сергей Штейн. Увы, ничего поэтичного на этом кладбище нет. Да и, возможно, никогда не было. Жалкая горстка старинных склепов способна удивить только самого неискушенного посетителя погостов.
И все же у ворот кладбища у меня открывается второе дыхание. Сейчас начнется мой любимый квест — поиск могилы, точные координаты которой не указаны в интернете. Мне удалось обнаружить только несколько смазанных фотографий, где на заднем плане виднеется неизвестный склеп. Вот я и думал, что сперва буду долго искать этот склеп с характерным узором над дверью. Потом мне предстоит вычислять, под каким углом и на каком расстоянии относительно склепа должна быть могила. Затем наступают две или три минуты абсолютной эйфории. Я бы даже сказал минуты, полные почти оргазмического удовольствия, когда точно установил местонахождение могилы и преодолеваешь последние метры, чтобы наконец воссоединиться с ней. До сих пор не могу понять, что именно вызывает такую радость облегчения.
В этот раз ничего подобного не происходит: все силы ушли на прорыв через Гумилевскую улицу, а квест занял секунды две. Я сразу увидел могилу Анненского и уж только потом бесполезный ориентир — склеп.
Мы подобрались к кульминации: цель достигнута, перед нами могила! Вы, должно быть, ждете чего-то невероятного: что Анненский приподнимется и пожмет мне руку? Нет, могила есть могила, мертвец есть мертвец, и нет ничего более умиротворяющего, чем подобное положение дел. Даже искусственные цветы в точности те же самые, что и на фото несколькигодичной давности. И вот это постоянство кажется уже несколько странным — для цветов, переживших несколько зим на кладбище, они выглядят слишком свежими и чистыми. Значит, остается предположить, что кто-то носит на могилу Анненского одни и те же искусственные цветы и раскладывает их определенным образом. Попахивает безумием!
Я не разбираюсь в живых цветах, что уж говорить об искусственных, но предполагаю, что здесь лежит букет азалий — его любимых цветов. Рядом — книжка стихов, в файлике, для сохранности. Должно быть, кто-то сюда все-таки добирается, вероятней всего, на личном транспорте, и читает над могилой стихи — про смычок и струны или какое-нибудь еще. Я думаю последовать примеру этих поклонников, но тут очередное препятствие — оградка закрыта. Похоже, ее просто заклинило. Сначала меня посещает мысль перелезть, но день складывается до того нелепо, что я наверняка навернусь или застряну. Кроме того, здесь полно зрителей — толпы шатаются туда и сюда, в будний день, в середине дня. Похоже, это кладбище обслуживает не только город Пушкин, но и окрестности. Вообще, атмосфера вокруг могилы Анненского донельзя беспокойная, как на вокзале. Во многом за нее ответственны скворцы, щебечущие и кувыркающиеся в крупных сухих листьях.
На всякой могиле я что-нибудь забираю и что-нибудь оставляю взамен. Так Анненскому достается лимонный леденец «Бон пари» с кислой начинкой — хочется верить, пришедшийся бы ему по вкусу. Мне же досталась сосновая шишка: распотрошенная, как шевелюра той женщины с бультерьером. Шишка отправляется в карман рюкзака.
«Розовый подбой на белом крыле птицы»
Чтобы лучше понять Анненского, я зарылся в его переписку с дамами. Как человека поверхностного и порочного, это интересует меня куда больше, чем стерильные воспоминания родственников, рассуждения о технике перевода и даже сами его стихи. Флирт Анненского — а Анненский флиртует напропалую со множеством дам — восхищает своей манерностью. Каждое слово буквально вопит и воет, что перед нами — тонко чувствующий поэт. Типичное сообщение Анненского начинается так:
Любите ли Вы стальной колорит, но не холодный, сухой, заветренно-пыльный, — а стальной — только по совпаденью — влажный, почти парный, когда зелень темней от сочности, когда солнце еще не вышло, но уже тучи не могут, не смеют плакать, а дымятся, бегут, становятся тонкими, просветленными, почти нежными? Сейчас я из сада. Как хороши эти большие гофрированные листья среди бритой лужайки...
Или другое письмо, Екатерине Мухиной. Анненский умеет охмурить по высшему классу:
Мой дорогой и нежный друг,
Ваше письмо обрадовало меня — я читаю и перечитываю его, и оно дает мне «Вас», «Вашего я» больше, чем Вы, быть может, хотели мне его уделить. Я мысленно сочетаю его с пионом, розовым и таинственно озаренным солнцем, который расцвел рядом с моим балконом, и я думаю о Вас... Погрязая в мусоре моих книг, я беспрестанно думаю о Вас, такой окруженной и все же такой одинокой и таинственно, будто солнцем, озаренной огнем моей уединенной мысли...
Анненский берет высочайшую ноту с начала и тянет ее до конца письма, вот одна из концовок:
Вечер... Тишина... Одиннадцать часов... А я-то столько хотел Вам сказать... Мысли бегут, как разорванные тучи... Чу... где-то сдвинулись пустые дрожки... Если у Вас есть под руками цветок, не держите его, бросьте его скорее... Он Вам солжет... Он никогда не жил и не пил солнечных лучей. Дайте мне Вашу руку. Простимся.
Я привожу все эти цитаты не для того, чтобы посмеяться над чрезмерным изяществом Анненского, одного из любимых поэтов. Эти фрагменты вырваны из контекста времени, из общей манеры общения, принятой в декадентских салонах тех лет. Хотя даже на фоне эпистолярного наследия Вячеслава Иванова или Бальмонта некоторые места из Анненского выглядят пересахаренными. Но дело не в его экстремальной манерности.
Внешняя жизнь Анненского была бессобытийной и в то же время трагической. У него был порок сердца, и он знал, что может умереть в любую минуту. Эта внешняя жизнь протекала в равнодушной или даже враждебной среде, в череде однообразных дел. Похоже, что большую часть времени он должен был притворяться кем-то другим, соответствовать серьезной административной должности. Вообще, о личности Анненского мы мало что знаем — в сравнении с другими первостатейными поэтами.
Умерший довольно рано, Анненский появляется в мемуарах Серебряного века эпизодически, мертвым кумиром: как, например, у Георгия Иванова в «Петербургских зимах», где Гумилев с Ахматовой в ночи едут на станцию Царское село, чтоб посидеть на любимой скамейке Иннокентия Анненского. С другой стороны, Анненскому повезло, что он не попал на страницы, например, «Курсива моего» или «Некрополя» ядовитых Берберовой и Ходасевича. Они любили выставлять всеобщих кумиров шутами и сельскими идиотами, и получалось это вполне убедительно.
Перед смертью к поэту Анненскому пришла некоторая популярность — хотя с оговорками. Волошин по поводу его сотрудничества с журналом «Аполлон» пишет: «Это было какое-то полупризнание. Ему больше подобало уйти из жизни совсем непризнанным».
Анненского глубоко ранило решение редактора «Аполлона» Маковского отложить публикацию цикла его стихов, специально подготовленного и уже набранного. Это было сделано, чтобы дать больше места для молодых поэтов. Ахматова практически обвиняет Маковского в смерти Анненского: такой это был удар, таким по-детски ранимым был этот 50-летний директор гимназии.
На обратном пути я хотел раскошелиться на такси, но мужчина, похожий на петербургского писателя Сергея Носова, заломил 1000 рублей — за поездку до станции. Но хотя бы здесь повезло — оказалось, от кладбища ходит автобус, чей маршрут пролегает мимо станции.
Из окна автобуса мне довелось наконец насладиться классическими видами города Пушкина. Александровский дворец, Екатерининский дворец, пруд, парк, галерея, гимназия, дореволюционные домики на два-три этажа. Как же красив город Пушкин! Как хорошо живется жителям города Пушкина, большинство из которых, уверен, даже и не подозревает об изнанке своего милого зеленого городка — Гумилевской улице.
Автобус делает долгую остановку напротив Царскосельской гимназии. Иннокентий Анненский долгие годы служил ее директором и был отстранен за чрезмерную мягкость. Начальство считало, что он потворствует революционным настроениям учащихся. В то же время сами учащиеся не считали его «своим»: едва ли Анненского хоть сколько-нибудь занимали революционные настроения, а равно сами учащиеся, требования министерства или коллег по учебному учреждению. Вряд ли его вообще занимало хоть что-нибудь, кроме достижения «музыкальности» в сочиняемом им или переводимом с древнегреческого стихе. Вообще, если доверять общему впечатлению от мемуаров об Анненском, сложно вообразить себе человека, который бы меньше него годился на должность директора учебного заведения. Я представляю себе этого надушенного, нафабренного, глубоко погруженного в свои думы мужчину, проплывающего по коридорам гимназии на перемене, среди воющих и орущих горилл.
Но все-таки радует, что у Анненского был круг корреспондентов, которым он мог предъявить себя настоящего. Такие минуты были настолько редки, а круг корреспондентов настолько узок, что его «настоящее» выходило под мощным напором, в немного перебродившем виде. Он не только кокетничает и распушает хвост, но и пишет страшно грустные вещи: об утекающем сквозь пальцы времени, о болезни и бессилии. О «нитях дум» (должно быть, поэтических), которые рвет работа, и которые никогда больше не удастся связать. Из письма Бегичевой:
Уходят минуты... может быть, мои последние, когда я еще чувствую розовый подбой на белом крыле птицы.
