Между Кавериным и Буниным: памяти Льва Лосева
Из книги Александра Жолковского «Все свои. 60 виньеток и 2 рассказа»
Александр Жолковский. Все свои. 60 виньеток и 2 рассказа. М.: Новое литературное обозрение, 2020
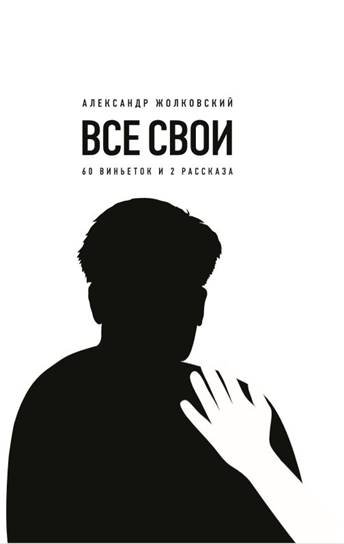 В 2017 году я занимался текстами двух очень разных авторов: сначала «Темными аллеями» (ТА) Бунина, потом «Двумя капитанами» (ДК) Каверина, потом двумя вперемежку. Обе книги мои любимые. Каверинская, детская, — с детства, бунинская — с более зрелого возраста, в котором написана и которому адресована, да в моем советском детстве ей и неоткуда было бы взяться. Но писать о них мне пришло в голову лишь совсем недавно. Над обеими статьями я работал с увлечением.
В 2017 году я занимался текстами двух очень разных авторов: сначала «Темными аллеями» (ТА) Бунина, потом «Двумя капитанами» (ДК) Каверина, потом двумя вперемежку. Обе книги мои любимые. Каверинская, детская, — с детства, бунинская — с более зрелого возраста, в котором написана и которому адресована, да в моем советском детстве ей и неоткуда было бы взяться. Но писать о них мне пришло в голову лишь совсем недавно. Над обеими статьями я работал с увлечением.
В статье о ДК я показал, как искусно — под сенью «благодетельной цензуры» — Каверин очеловечил своего соцреалистического летчика Саню Григорьева, придав ему множество собственных черт, личных и профессиональных. Он поселил его в местах, где сам живал, сделал писателем и даже текстологом, разбирающим дневник полярного штурмана — подобно тому как очень книжный (анти-)герой более раннего «Исполнения желаний» Трубачевский расшифровывает черновики Десятой главы «Онегина».
А ТА я рассмотрел как своего рода каталог разных вариантов взаимоотношений между сексуальными партнерами и их последствий. Особое внимание на этом общем фоне я уделил давно интриговавшим меня «Визитным карточкам». Частая у Бунина история мимолетной любовной связи принимает там форму эротического эксперимента, который ставится авторским персонажем и охотно подыгрывающей ему героиней-читательницей.
Обоими авторами я, повторяю, занимался увлеченно — с полным погружением в тайны их ремесла. И только вынырнув на поверхность и взглянув на две законченные статьи со стороны, сообразил, что речь в них идет о текстах, созданных практически одновременно, но не имеющих друг c другом почти ничего общего.
ДК печатались с 1938-го по 1944-й, первая книга вышла отдельным изданием в 1940-м, а первое полное издание в 1945-м. ТА писались и печатались, начиная с 1937 года, первое издание вышло в 1943-м (12 рассказов, один из которых был потом исключен Буниным из цикла); второе, более полное, в 1946-м (38 рассказов); в посмертные издания ТА включаются, согласно авторской воле, еще два рассказа, написанные в 1946-м и 1949-м. Во всем остальном, помимо сходной датировки, две книги расходятся диаметрально.
ДК писались в СССР и были отмечены Сталинской премией (1946). ТА создавались в эмиграции и еще долго отторгались значительной частью собратьев по перу, критиков и читателей, как в эмиграции, так потом и на родине. ДК дописывались во время войны, и военная тема вплетена в сюжет второй книги. ТА писались, по словам жены Бунина В. Н. Муромцевой, «отчасти потому, что хотелось уйти во время войны в другой мир, где не льется кровь, где не сжигают живьем и так далее». И главное, ТА полны то более, то менее откровенного секса, а ДК, роман в том числе о любви, целомудрен на сто процентов.
Не то чтобы Бунина (1870—1953) не интересовало ничего, кроме любовной темы. Так, он попутешествовал по свету не меньше и даже больше Каверина и героев ДК, что и отразил во многих своих вещах. Просто в ТА фокус именно на любви во всех ее проявлениях.
Каверин (1902—1989) был и вообще более зажат, хотя кое-какие попытки изобразить плотские страсти есть в том же «Исполнении желаний». А в ДК подобные порывы даже отрицательных героев никогда не выходят за рамки благопристойности, будучи заданы как общими канонами соцреалистического письма, так и избранным жанром — романа для юношества.
Способность Каверина писать увлекательно, несмотря на следование многообразным запретам внешней и внутренней цензуры, — интереснейшая тема. В статье о ДК я задался среди прочих и вопросом о том, не пришлось ли их автору в послесталинские времена отмежевываться (подобно Фадееву, Трифонову и нек. др.) от каких-то былых некрасивостей, проникших и в роман. И установил, что в своих автобиографических «Освещенных окнах» (1976) Каверин задним числом признался, что смолоду был почитателем (и подручным) жуликоватого директора Единой трудовой школы № 144 — одного из прототипов зловещего Николая Антоновича Татаринова из ДК.
Я мог бы пойти и дальше — если бы повнимательнее читал мемуарную прозу своего сверстника и доброго приятеля Лёши Лосева (1937—2009), кстати, автора книги «О благодетельности цензуры...», на которую я в свое время отозвался сочувственной рецензией, что и положило начало нашему знакомству. Перечитав «Меандр» сейчас, в частности главу «Арктика» (с. 164-165), я с удовольствием констатировал, что Лёше тоже нравились «Два капитана», особенно начало, а также обнаружил, выражаясь по-лосевски, новые сведения о Вениамине и Николае, пролившие неожиданный свет на разгадываемую здесь загадку.
«Меандр» написан мастерски, и Лосев, замечательный поэт и прозаик, вступает на страницы моих заметок в роли их третьего, тоже, по сути, заглавного героя — литератора, поставляющего искомое промежуточное звено между Кавериным и Буниным. Соответственно этому его рангу приведу релевантные даты, в частности — приходящиеся на годы создания ТА и ДК.
Лев Лосев (псевдоним Льва Владимировича Лифшица) родился 15 июня 1937 года в Ленинграде и своим «родным гнездом» всегда считал писательский дом на канале Грибоедова, 9, хотя на свет появился не там и «прожил... там недолго — от силы два сознательных года перед войной и года полтора после возвращения в июле 44-го из Омска» (куда был эвакуирован в 1941-м). Вскоре после возвращения в Ленинград его родители разошлись, и с 1946 года Лёша (с мамой, а потом с женой) жил в Ленинграде уже по другим адресам, а в 1976-м эмигрировал в Штаты.
В какой-то мере это аналогично параллельным перемещениям Бунина, на время войны (1939–1945) переехавшего из Парижа на юг Франции, и Каверина, с 1935 года жившего на канале Грибоедова, но в годы войны работавшего на Северном флоте, а с конца 1946-го (из-за ждановщины, особенно свирепствовавшей в Ленинграде) постепенно перебравшегося в Москву. (Квартира на канале Грибоедова оставалась за его семьей до 1948-го или 1949 года.)
С Кавериным Лёша, насколько можно судить, не встречался, но выросши в писательской среде, а потом долго варясь в андеграундной тусовке, непосредственно наблюдал изнанку российской литературной жизни. Лёше было что вспомнить, и в «Меандре» этому посвящена не одна филигранная главка. Вчитаемся в «Арктику».
Повествование начинается издалека, с возвращения из эвакуации, и строится на постепенном приближении к Каверину, приближении, все время сопрягаемом с отталкиванием:
Когда в начале августа 44-го года мы вернулись в Ленинград, в нашем пострадавшем от снаряда жилье на третьем этаже жить было нельзя, и нас подселили в квартиру Вагнера этажом выше. Некоторое время мы там с мамой жили одни в маленькой комнате. В большую комнату Вагнеров я старался не заходить. Там среди безобидных натюрмортов и других работ жены Вагнера висела и большая неоконченная картина мрачных тонов — синеватая женщина на набережной канала. Я ее боялся.
Еще раньше, до того, как папа переехал от нас через двор, маму в конце сентября или в начале октября 44-го года положили в больницу.
Семилетний Лёша как бы вселяется в родной дом, но не совсем, — живет в чужой квартире. Чужой, но тоже писательской; писательской, но не собственной и не каверинской. И, ввиду некоторых аспектов ее художественного антуража, немного страшных — несмотря на присутствие мамы, упоминаемой пока что мимоходом.
Дальше следует пассаж, развивающий, с двусмысленными фиоритурами по адресу хозяина квартиры, тему Севера — тему, которой предстоит привести нас к автору ДК:
Николай Петрович Вагнер, пожилой арктический писатель. Ленинград — самый северный из больших европейских городов... Поэтому в Ленинграде Музей Арктики, Институт народов Севера и всегда было несколько писателей — специалистов по Северу. Почему-то все они носили германские фамилии — наш сосед Вагнер, а еще Кратт, Гор. Я как-то попробовал почитать одну из надписанных нам Вагнером книг. Оказалось, про рыболовецкий колхоз. Было очень скучно. Герои то и дело сообщали друг другу: «Пошла сёмушка, пошла...»
Разделавшись с Вагнером, Лосев делает еще один, знаменательный, шаг в сторону Каверина, но читатель об этом пока не догадывается:
Был еще среди авторов-северян, но к тому времени уже умер, писатель и художник с географически подходящей фамилией, Пинегин (уж не псевдоним ли, за которым тоже скрывается Шмидт или Штольц?). Вдова Пинегина, Елена Матвеевна, красивая еще, средних лет женщина, была маминой приятельницей. Ее второй муж, журналист Колоколов, был почти всегда в разъездах.
Писатель Николай Васильевич Пинегин (1883—1940), действительно, существовал и к 1944 году, действительно, уже умер, но печатался, как видно из статьи о нем в Википедии, под настоящей фамилией. Впрочем, Лёшиной хохмы это отнюдь не портит, а его понятный интерес к псевдонимам игриво сближает/сталкивает его с очередным автором-северянином.
Тема Севера продолжает развиваться, чему сопутствует очередной пространственный шаг, ведущий к Каверину: перемещение Лёши вместе с мамой в квартиру теперь уже Пинегина; под сурдинку повторяется и беглое, но в дальней повествовательной перспективе ключевое, упоминание о приятельстве мамы с вдовой писателя:
Пинегинская квартира была этажом выше нашей, и оттого там было светлее. К тому же половину пола в кабинете покрывала шкура белого медведя, к тому же на стенах висели картины Пинегина, изображавшие ярко-синее небо, и сияющие белые льды (точь-в-точь как картины Рокуэлла Кента, которые я увидел много позже), и всевозможные заполярные трофеи. Мама вела с Еленой Матвеевной беседы в другой комнате, а мне предлагалось глазеть на заполярные диковины.
Оказавшись в квартире, пропитанной духом Заполярья, Лёша пытается и сам им проникнуться, но безуспешно:
Я трогал голову медведя с собачьими стеклянными глазками... Посматривал на картины, увы, не оживленные парусником или пароходиком... Еще там были самоедские музыкальные инструменты, узкие изогнутые металлические пластинки, которые, если их цеплять за передние верхние зубы, издавали «дзы-ннь». Я, не без брезгливости, пробовал подзинькать самой маленькой и тонкой, но были там и такие, что заставляли подивиться крепости самоедских зубов... Все это быстро надоедало.
Я стараюсь цитировать по возможности кратко, с купюрами. Но ни парусника, ни пароходика, ни тем более самоедских зубов опустить не могу — этим ружьям предстоит выстрелить.
К сугубому отталкиванию дело не сводится. Находится место и для вживания в образ полярного писателя, для апроприации — запомним это слово! — чего-то из его репертуара, и это достигается благодаря пароходам, которых нет на его картинах, но которые охотно подсказываются семилетнему будущему писателю его щедрым воображением:
Я подходил к окну и глядел на канал. Вот этим заниматься можно было бесконечно долго: представлять себе, как за Пинегиным присылают катер из адмиралтейства, как он прямо под окнами собственной квартиры с чемоданом и мольбертом садится за спиной рулевого, как катер огибает Спаса-на-крови и по Инженерному каналу, потом по Лебяжьей канавке выплывает в Неву и мчится к Кронштадту, где уже ждет оснащенный для полярного плавания пароход, и капитан Седов с печатью обреченности на благородном лице, изучает карту в рубке. (Пинегин действительно был участником злополучной экспедиции Седова.)
Будущий писатель Лосев на какой-то момент полностью перевоплощается в Пинегина, апроприирует его звездные часы. А через Пинегина подспудно намечается автопроекция и в Седова, а там и в Каверина и его «двух капитанов», Саню Григорьева и Ивана Татаринова, поскольку экспедиция Седова (1912—1914), кончившаяся его гибелью, послужила исторической канвой каверинского романа.
Разумеется, приятие очередного северного автора опять сопрягается с отталкиванием:
Но Север меня в моих мореплавательских фантазиях не очень привлекал. Мой пароход отправлялся на запад, а потом на юг, к берегам Южной Америки, островам Океании.
(Добавим в скобках, что и сам Каверин во многом вдохновлялся тропическими маршрутами Дюмон-Дюрвиля и Лаперуза, не говоря о капитанах Гранте и Немо; южные моря безусловно предпочитал и Бунин.)
Но следующий шаг делается опять в сторону приятия/отождествления, причем на этот раз оно распространяется уже и на Каверина:
И все же, я вспоминаю с нежностью начало романа Каверина «Два капитана» — бедный немой мальчик, сумка утонувшего почтальона, письма обреченного полярного исследователя, «твой Монтигомо Ястребиный Коготь». Дальше, с середины, герои все больше и больше превращаются в набитые советскими опилками чучела на фоне плакатной фанеры, но начало — что твой Диккенс. «Палочки должны быть по-пин-ди-ку-лярны». Красивая и печальная вдова путешественника. Ее расчетливый соблазнитель. «Не доверяй Николаю».
Нотка отталкивания есть и тут: «набитые советскими опилками чучела», но «красивая и печальная вдова» и «расчетливый соблазнитель» принимаются безоговорочно, хотя и отдают литературой — Диккенсом и проч.
Читатель по-прежнему ничего не подозревает, но все уже готово для потрясающего финального хода, и Лосев его делает:
В 1999 году, катая маму в кресле вокруг старческого дома, я к чему-то упомянул Каверина, и она вдруг поделилась сплетнями полувековой — да более того! — давности.
«У Каверина была очень некрасивая жена, сестра Тынянова. До войны, как, бывало, жена уедет на дачу, он уж идет [из квартиры № 100 — А. Ж.] через двор с букетом, поднимается к Елене Матвеевне. Он ей потом стал противен. Она мне сказала, что после каждого свидания он по два часа проводил у нее в ванной, отмывался».
Из детства и от чтения ДК внезапно совершается скачок в неимоверную даль, а из нее мгновенный мемуарный отскок обратно — и прямо к Каверину, но уже лично.
Дистанции, действительно, огромного размера — географические и хронологические (Ленинград 1940-х и Восточный берег США в конце столетия)! А главное — нарративные: мы читаем незаконченные, опубликованные посмертно мемуары Лосева, пересказывающего то, что на пороге своей могилы рассказывает ему мама, вспоминая через полвека то, что она, надо понимать, отчасти сама видела (дефиле с букетом), а отчасти слышала от непосредственной участницы событий. И сквозь эту многослойную перспективу, окутанную повествовательной дымкой, вдруг крупный план — сначала букета, а потом и обнаженного героя во весь рост! Каверин, до сих пор маячивший лишь вдалеке и исключительно как автор текстов, — но не как человек, хозяин квартиры, сосед по дому, — вдруг оживает и является во плоти! Вот к чему, оказывается, готовили нас пробуемые будущим мемуаристом на зуб, вслед за самоедами, музыкальные металлические пластинки, вот куда вела серия поочередно апроприируемых им текстов, вещей, картин, квартир и жизненных ролей всех этих авторов-северян, которых он так любит ненавидеть (so loves to hate). Кстати, устойчивой амбивалентности текста вторит и двойственное отношение к Каверину прекрасной вдовы.
О повествовательной дымке я заговорил не всуе. Когда в точности происходили паломничества Каверина с букетом, не совсем ясно. Елена Матвеевна представлена привлекательной вдовой Пинегина, разговоры с ней Лёшиной матери отнесены к 1944 году, тогда же, надо понимать, одновременно с отъездами Лидии Николаевны на дачу, в командировках удобным образом оказывался и журналист Колоколов. И вспоминая все это в 1999-м, мать делится с Лосевым «сплетнями полувековой — да более того! — давности». Все это как будто позволяет датировать букеты и водные процедуры серединой 1940-х, однако сама Ася Михайловна говорит: «до войны»! Но тогда дело должно было происходить либо при живом Пинегине (которому к этому времени еще не было шестидесяти, но Каверин, как и Елена Матвеевна, был много моложе), либо в относительно короткий промежуток между его смертью (18.10.1940) и началом войны. Наконец, история могла длиться годами...
Но это еще не конец «Арктики». В финальном абзаце Лосев, недаром на протяжении всей главки примеривавшийся к собратьям по перу, отдает, разумеется не без налета двусмысленности, должное высокому профессионализму Каверина — так сказать, окончательно сливается с ним в экстазе:
Я подумал: вот это писатель! Из Елены Матвеевны, вдовы в квартире, наполненной полярными трофеями мужа, он сделал свою вдову полярника Марью Васильевну, это понятно. Но ее соблазнителя, предателя и лицемера, выкроил из самого себя!
Я же, дойдя до этого места, подумал: вот это литературовед! Ай да Лёша, ай да сукин сын! И как я мог забыть о его находке и не вставить ее в свою статью о ДК?!
...А что же Бунин, о котором мы вроде бы забыли?! А то, что история со вдовой, букетом и ванной могла бы послужить отличным сюжетом для сорок первого рассказа «Темных аллей»! Я постарался показать, какую конфетку сделал из этого Лосев, но думаю, что Бунин развернул бы сюжет иначе.
Интересно как? По адюльтерной линии на ум приходят «Кавказ», «Дубки», «Генрих», но все это слишком кроваво. Повеселее «Визитные карточки» и совсем водевильна «Кума». Кадр с обнажением в ванной есть в рассказе «В Париже», только ню там женское (мужские Бунину были явно ни к чему).
Что Лосев думал о бунинской прозе, в частности о ТА, ни из «Меандра», ни из других публикаций не видно. Но у него есть стихотворение, озаглавленное «Из Бунина», перекликающееся с «Легким дыханием» (а возможно, и с чем-то еще) и посвященное жене:
Нине
Прилетят грачи, улетят грачи,
ну а крест чугунный торчи, торчи,
предъявляй сей местности пасмурной
тихий свет фотографии паспортной.
Каждый легкий вздох — это легкий грех.
Наступает ночь — одна на всех.
Гладит мягкая звездная лапища
бездыханную землю кладбища.