Люди двадцатого числа
Из воспоминаний революционного коменданта Петрограда Бориса Энгельгардта
Потонувший мир Б. А. Энгельгардта: «Воспоминания о далеком прошлом» (1887–1944). СПб.: Издательство РХГА, 2020 Cодержание
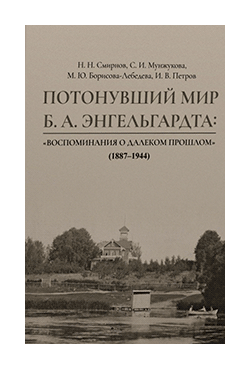 По приезде в Петроград я ощутил, насколько резко изменилось политическое положение в стране, но еще не мог дать себе отчета в том, как эти перемены скажутся на моей личной жизни.
По приезде в Петроград я ощутил, насколько резко изменилось политическое положение в стране, но еще не мог дать себе отчета в том, как эти перемены скажутся на моей личной жизни.
Пока сказывались осложнения в бытовых условиях: росли цены на продукты питания, и доставать их стало труднее, передвижение по городу делалось затруднительным, извозчиков почти не было, трамваи бывали всегда переполнены и ходили редко.
В связи с этим значительно изменился характер обывательской жизни в кругах состоятельных классов. Однако кое-что из старого уклада сохранилось.
Большинство моих знакомых разъехалось, но, как ни странно, продолжали функционировать клубы: аристократический «Новый клуб» и старейший в Петрограде клуб высшей бюрократии «Английский». Как и в былое время, в назначенные часы подавались завтраки и обеды, только изысканные блюда были теперь заменены скромными котлетами с картофельным пюре, но богатые клубные погреба давали возможность получить бутылку тонкого вина.
В этих клубах собирались безработные былые — министры, важные чиновники, члены Государственного Совета и Государственной Думы, гвардейские генералы и офицеры и светские бездельники — играли в карты и на бильярде, но главным образом приходили туда, чтобы порасспросить, узнать, что делается в городе, что слышно о правительственных мероприятиях, чего можно ожидать в ближайшем будущем.
Все люди этой среды, в той или иной степени связанные с крупной земельной собственностью, с промышленностью, с финансовым миром, были, конечно, настроены крайне контрреволюционно, но активных контрреволюционеров среди них почти не было. В ту пору правые и кадетские политические организации перекочевали в Москву и далее на юг, и в Петрограде застряли наиболее пассивные представители этих кругов. Они и к Временному правительству относились очень критически, а к пугавшей их непонятной Советской власти тем более. Все они рады были бы свержению ее, но мало кто из них готов был принять непосредственное участие в этом свержении.
Принимая во внимание имущественное и социальное положение в прошлом всех этих «бывших» людей, их отношение к Советской власти могло считаться если не последовательным, то естественным: Советская власть отнимала их имущество, снижала их общественное положение; задания, которые ставили перед собой большевики, представлялись им несущественными, и они являлись их противниками. Для того чтобы примириться с реформаторской деятельностью большевиков, надо было воспринять их идею, для этого надо было много пережить, передумать, увидать на деле осуществление грандиозных планов В. И. Ленина, а в то время все эти «бывшие» люди, и я в их числе, видели перед собой только безжалостное уничтожение того, что было нам не только выгодно, но и дорого.
Более непонятна в то время была мне позиция, которую заняли по отношению к новой власти рядовые чиновники различных государственных учреждений, большей частью ни в какой степени не связанные ни с капиталом, ни с промышленностью, все люди «двадцатого числа». Так называли обыкновенно чиновников и офицеров, не имевших личных средств и живущих на жалование, которое выдавалось всегда 20-го числа каждого месяца.
Представления о социализме и коммунизме у большинства этих людей двадцатого числа были самые примитивные, и, поскольку они легко примирились со свержением царя и продолжали работать при Керенском, сдвиг от Керенского к Ленину не должен был бы казаться им непреодолимым. И Керенский, и Ленин находились оба за границей их политических представлений, а разобраться в том, какая пропасть отделяла В. И. Ленина от вожаков Временного правительства, они не умели. Но всех этих людей пугали решительные меры, направленные к полной ликвидации старого уклада жизни. Они видели перед собой разрушение всего того, к чему они «привыкли», того, что в их глазах олицетворяло русскую государственность.
Легко примирившись с упразднением монархии, они мало были огорчены и упразднением старого Государственного Совета — очень уж далеко стояли от них престарелые сановники, члены этого высокого учреждения. Государственная Дума была им ближе, и об ней уже пожалели многие, а разгон Учредительного Собрания, о котором было так много разговоров с первого дня революции, на которое возлагались исключительные надежды, для большинства этих былых людей «двадцатого числа» казался совершенно недопустимым.
Многих пугал и развал армии, который большею частью приписывали большевикам. Теперь шли слухи об упразднении старого земства, о перестройке промышленности на каких-то новых основаниях, начался поход на церковь, предстояла полная отмена права собственности на орудия производства... Во всех этих начинаниях усматривали лишь разрушение, и для того, чтобы понять смысл их или примириться с ними, для большинства нужно было «время». Сравнительно немногие пошли на работу при большевиках с полной и искренней готовностью принести пользу. Остальные взялись за дело, вынужденные к тому материальными условиями быта, и лишь постепенно втянулись в рабочий хомут.
Отражение настроений рядового чиновничества я встретил в разговоре с одним из старших бухгалтеров Государственного банка, Николаем Ивановичем Неудачиным. Это был человек, достигший своего солидного, обеспеченного положения исключительно личным трудом. Сын бедного сельского дьячка Черниговской губернии, он сумел окончить реальное училище, с юных лет давал уроки за гроши, потом начал служить в местном казначействе на самых скромных должностях и упорным трудом и безукоризненной честностью добился ответственного поста старшего бухгалтера в центральном управлении Государственного банка в Петербурге. Он не был связан ни с капиталом, ни с фабричными предприятиями, подобно многим бухгалтерам частных банков; не было у него недвижимой собственности, он был только правительственный чиновник и, вероятно, мог бы быть использован и оценен по заслугам и большевиками. Однако привычные представления о строении государственных порядков не позволили ему примириться с огульной ломкой привычного ему старого, а конструктивной работы в этой ломке он разобрать не умел. Как и многие другие скромные чиновники, поначалу не решавшиеся работать с большевиками, Неудачин не хотел приниматься за дело при них.
Аналогичные настроения сказывались и в среде рядового офицерства, но там, под влиянием тяжелых испытаний в столкновениях с солдатской массой, пробуждалось чувство самосохранения, которое толкало офицеров к активной контрреволюции. Между тем в 1918 году острота отношений между солдатами и офицерами как будто спала, поскольку офицеры выражали готовность служить в народившейся Советской Армии, применяясь к новым условиям жизни.
Мне пришлось вести по этому поводу разговор с начальником Академии Генерального штаба полковником Андогским.
Я зашел к нему с тем, чтобы попытаться найти работу в Академии, в качестве руководителя тактических занятий, а может быть, даже и лектора по вопросу использования людского запаса в стране во время Первой мировой войны, вопроса, который я довольно основательно изучил.
Андогский находился как бы на перепутье: он никак не мог решить, имеет ли смысл добросовестно продолжать работу при большевиках или нужно бросить ее и искать... но чего искать, он сам не знал.
Сомнения обуревали и меня самого, однако я постарался высказать ему свое мнение: нам приходится считаться с обстановкой, ничего сразу изменить мы не в состоянии, надо служить не тому или иному правительству, а Родине, и не может быть, чтобы старательная и дельная работа не принесла бы пользы и не была бы оценена.
Я говорил «прописи» и был не столько убежден в том, что говорил, сколько старался убедить самого себя в необходимости стать на такую точку зрения. О возможности активной борьбы с теми начинаниями, к которым у меня в душе сочувствия не было, мы представления не имели: сведения о разгоревшейся на юге России Гражданской войне до нас еще не доходили.
Сомнения и колебания преследовали, по-видимому, Андогского и в дальнейшем. Он вскоре предпринял перевозку Академии из Петрограда, но сам перебросился в лагерь Колчака. Насколько мне известно, он и там продолжал колебаться и в белом движении никакой заметной роли не сыграл. Андогский был первым и единственным начальником Академии Генерального штаба, занявшим этот пост на основании закона Временного правительства, установившего избрание начальника Академии всеми офицерами Генерального штаба. Летом 1917 года выдвинуты были две кандидатуры: полковника Андогского и генерала Головина. Для меня не совсем понятно предпочтение, оказанное Андогскому, мне казалось, что для избрания Головина было гораздо больше оснований.
Получить работу в Академии мне так и не удалось. Хотя у меня в то время еще сохранялись некоторые суммы на текущем счету в Торгово-Промышленном банке в Петрограде, некоторые банки еще продолжали функционировать, я продолжал поиски работы, так как при быстром росте цен на продовольственные продукты моих денежных запасов могло хватить в лучшем случае на полгода.
<...>
В Английском клубе я познакомился с французским торговым агентом, эльзасцем, с немецкой фамилией Фредерикс. Мы с ним часто играли в клубе в покер, и у нас установились не близкие, но тем не менее приятельские отношения.
<...>
В один из дней августа я зашел к Фредериксу, чтобы передать ему последние предложения Стахеева, и застал его в большом волнении. Он только что узнал об убийстве Урицкого, совершенном в это утро. Он высказал предположение, что вслед за этим фактом последуют также правительственные распоряжения и меры, при которых предполагаемую сделку вряд ли удастся довести до конца. Я, в свою очередь, был неприятно поражен, т. к. понимал, что личное мое положение в городе может сильно осложниться.
Тем не менее я, довольно легкомысленно, отправился обедать в Новый Клуб, где рассчитывал получить дополнительные сведения о подробностях убийства и о его возможных последствиях.
В клубе уже знали, что убийца, молодой еврей Канегиссер, застрелив Урицкого при входе в помещение Ч. К., в возникшей суматохе поспел выскочить из дверей, вскочил на велосипед, оставленный им на улице, и понесся через Дворцовую площадь и дальше по Миллионной улице. У ворот одного из домов, зацепившись за что-то, он упал и, бросив велосипед, вбежал во двор, поднялся по черной лестнице на второй или третий этаж, где случайно оставалась открытой дверь в квартиру кн. Меликова. Убийца быстро прошел через кухню к парадному входу, в передней сорвал с вешалки чье-то пальто и, надев его, стал спускаться с лестницы. Однако к этому времени весь дом был уже оцеплен чинами Ч. К., убийцу арестовали, в доме начался повальный обыск.
Дом, в котором пытался скрыться Канигиссер, принадлежал Английскому Клубу и, выходя на Миллионную улицу, своей тыловой частью примыкал к дому, выходившему на Дворцовую набережную, в котором помещался сам клуб. Вплотную к дому Английского Клуба на набережной примыкал дом Нового Клуба, в котором я обедал.
После обеда бывший министр земледелия, кн. Васильчиков, предложил мне сыграть партию на бильярде. Мы принялись играть, а генерал Вановский, с трубкой в зубах, сидел на высоком кожаном диване, тянувшемся вдоль стены бильярдной, и молча следил за нашей игрой.
В бильярдную вошли два молодых члена клуба — Нарышкин и Неклюдов и предупредили меня, что рядом, в Английском Клубе, идет обыск, что чины Ч. К. могут появиться у нас, а т. к. я хожу с чужим паспортом, а прислуга клуба меня прекрасно знает, то для меня могут последовать крупные неприятности.
Васильчиков тотчас же положил кий и предложил прекратить игру, но я в то время, очевидно, недооценивал опасность, которой я подвергался. Мы закончили партию и вместе с Васильчиковым спокойно вышли из клуба. На нашем месте стали играть Нарышкин и Неклюдов, а Вановский остался на своем диване, продолжая курить трубку.
Все трое считали себя вне подозрений: с Канигессером они не только не имели ничего общего, но и не знали о его существовании, контрреволюцией не занимались и, предупреждая меня об опасности, считали, что им ничего грозить не может.
Не прошло и получасу, как в клуб вошли чины Ч. К., все присутствующие были арестованы и, по-видимому, явились первыми жертвами террора, последовавшего вслед за убийством Урицкого.