Крылья и окна
Фрагмент книги Лиды Укадеровой «Кинематограф оттепели»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Лида Укадерова. Кинематограф оттепели. Пространство, материальность, движение. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2023. Перевод с английского Александра Усольцева. Содержание
 Городские экраны и рамки
Городские экраны и рамки
Опубликованные в «Искусстве кино» сразу же после выхода «Крыльев» материалы круглого стола показали крайне эмоциональную реакцию на фильм и предельное разнообразие критических оценок. Некоторые хвалили картину за «реализм без скидок и компромиссов», другие обвиняли в нереалистичности и предвидели возможный моральный вред социалистическим идеалам. Объединяло же все эти разнообразные позиции общее внимание к вопросам истории и поколенческим сдвигам: по мнению большинства критиков, центральный конфликт ленты заключается в том, что главная героиня застряла в прошлом и не способна (или не хочет) приспосабливаться к культурным изменениям настоящего.
Фактически Надя — уважаемый директор профессионального училища, которая служила летчицей в годы Великой Отечественной войны и чья фотография выставлена в городском историческом музее, — спустя двадцать лет после Победы существует будто бы в социальном и эмоциональном вакууме, полностью отчужденная от окружающего мира. Ни материнство, ни близкие отношения с директором музея не помогают смягчить ее абсолютный внутренний разлад, внешними проявлениями которого становятся строгая, зажатая походка и резкая, до боли формальная манера речи. В фильме мы видим ряд сцен из жизни Нади — конфликты с учащимися, встречи с дочерью, долгие прогулки по городу и неоднократные посещения местной летной школы, — большая часть которых оставляет чувство одиночества, смущения и непонимания. Единственной отдушиной становятся ностальгические кадры неба, повторяющиеся на протяжении фильма, иногда во время ее прогулок по Севастополю. У ленты открытый финал: на аэродроме летной школы Надя садится за штурвал самолета и, к удивлению учащихся, предлагавших ее «прокатить», улетает ввысь. Заключительные кадры представляют собой мелькающие панорамы неба и земли как бы с точки зрения свободно движущегося самолета — образы, которые можно толковать либо как мгновения наконец обретенного Надей счастья, либо как картины последнего самоубийственного полета, либо как то и другое одновременно.
В «Крыльях» с предельной точностью изображено, как изоляция главной героини становится результатом ее рассинхронизации с историей. Надин устаревший советский стиль — ее одежда, манера говорить и строгая профессиональная самоотдача — абсолютно несовместим с более свободным, ярким и непринужденным поведением ее дочери и ее друзей или же молодой журналистки, которая берет у нее интервью в середине фильма. Но даже в своей роли представительницы другого поколения Надя выделяется прежде всего тем, что она женщина; фильм перенаселен мужчинами, в том числе ее ровесниками, которых текущее положение дел, кажется, совершенно устраивает, поскольку они смогли осмысленно интегрироваться в эту новую культуру. Исторический разрыв, являющийся доминантой Надиного опыта, обусловлен именно ее гендером и представлен в фильме преимущественно как пространственная разобщенность. Наиболее выпукло он проявляется в неспособности героини принять «здесь и сейчас» своего опыта, найти удовольствие и смысл, которые она со всей очевидностью ищет во время прогулок по городу. Стремясь к участию в общественной жизни, она тем не менее всегда кажется отстраненной и безрадостной. Камера почти не показывает город с ее точки зрения, заостряя вместо этого внимание на ее плотно обрамленном теле, когда она бродит по улицам.
Эти детали не ускользнули от внимания критиков того времени. В ходе посвященного ленте круглого стола Вера Шитова проницательно отметила, что лучший способ понять фильм Шепитько — это обращаться не к фабуле, а к тому, что «остается» за ее рамками, к «остатку искусства», как она это называет; остальные же участники дискуссии, напротив, преимущественно разбирали именно повествование. Заостряя внимание на сценах прогулок главной героини и ее воображаемых побегов в прошлое и в небеса, а также на материальных качествах образов и мизансцен фильма, Шитова видела в них опредмечивание Надиного «жизневосприятия» — другими словами, элементы, которые следует оценивать эстетически; киновоплощения возвратившейся Надиной способности «видеть, слышать, осязать», то есть в конечном итоге — «быть». Можно добавить, однако, что «Крылья» сосредоточены не только на процессе возвращения к Наде чувств, как точно заметила Шитова, но еще и на особой способности кино передавать подобное чувственное присутствие женщин в городской среде.
«Крылья» начинаются именно с такой глубоко саморефлексивной сцены, которая сразу же погружает зрителя в самую суть не действия, но метафоры кинопроизводства. Здесь Шепитько не только обращает внимание на богатство и многообразие кинематографа как чувственного аппарата, но еще и противопоставляет это богатство скудному чувственному опыту самой Нади. В этой сцене, которую можно рассматривать как пролог к фильму в целом, устанавливаются параметры режиссерского замысла: не только исследовать причины и последствия вытеснения героини из ее среды, но еще и переосмыслить то, как в этом процессе участвуют чувства, рождаемые кинематографом.
С первых секунд пролог приглашает нас заняться формальным упражнением по восприятию кино. Самый первый статичный кадр оживленной городской улицы — люди спешат по своим делам, заходят в магазины, беседуют — сопровождается полной тишиной и не содержит почти ничего, что могло бы указать на природу его происхождения. Это может быть отрывок из немого документального фильма, чье-то воспоминание или сон. В первую очередь и главным образом он обнаруживает неопределенность и непостоянство, лежащие в основе кинозаписи. Хотя картина начинается именно с этого кадра, в нем остро не хватает каких-либо четких координат, которые дали бы возможность определить время и место изображения. Вскоре, однако, тишина сменяется (по-видимому, недиегетической) музыкой, а затем другим (судя по всему, диегетическим) ритмичным звуком, напоминающим тиканье часов. Этот звук не соотносится ни с чем конкретным на улице, и создается впечатление, что раздается он не оттуда, а поскольку никакого другого пространства не видно, он кажется пугающе близким, как если бы исходил из нашего — то есть зрительского — пространства. Однако уже вскоре источник звука раскрывается. Мужчина со строгим лицом появляется на экране слева, идя прямо в сторону камеры, и мы понимаем, что так звучат его шаги. Его решительное движение по направлению и совсем близко к камере, практически на самом переднем плане экранного пространства, создает на секунду ощущение, что он вот-вот выйдет в пространство зрительское. Но именно в это мгновение камера отъезжает назад, показывая область, которая до того оставалась за кадром, и проясняя звукопространственную неопределенность, превалировавшую в сцене до сих пор. Мы понимаем, что камера находится внутри ателье по пошиву одежды, а безмолвная улица — за большим оконным стеклом. Поскольку рамка первого кадра в точности совпадала с оконной рамой, последней не было видно. Но как только источник звука (или же причина его отсутствия) и однозначные отношения между рамками устанавливаются, возникает ясное диегетическое пространство, создающее устойчивые позиции для камеры, зрителя и фигур на экране.

 Кадры из фильма «Крылья», 1966
Кадры из фильма «Крылья», 1966
После этого камера отдаляется от окна и следует за портным, который заходит в примерочную и начинает измерять верхнюю часть тела стоящей там женщины — Нади. В следующих кадрах ее спина находится столь близко к объективу, что темная ткань пиджака заполняет практически все экранное пространство, как будто стремясь слиться с его поверхностью. Руки портного и его измерительная лента движутся на самом переднем плане. Он измеряет Надю, прикладывая ленту в разных местах, и произносит вслух соответствующие числа. Конкретные контуры Надиного тела на протяжении большей части сцены остаются за кадром, и кажется, что темная поверхность, которую измеряет портной, визуально относится не только к ее телу, но и к самому экрану так, что они практически смешиваются, остальное же тело портного мы не видим, и оно как будто находится где-то рядом с камерой. Наконец он объявляет, что Надин размер стандартный, шедшие все это время титры заканчиваются, и начинается фильм.

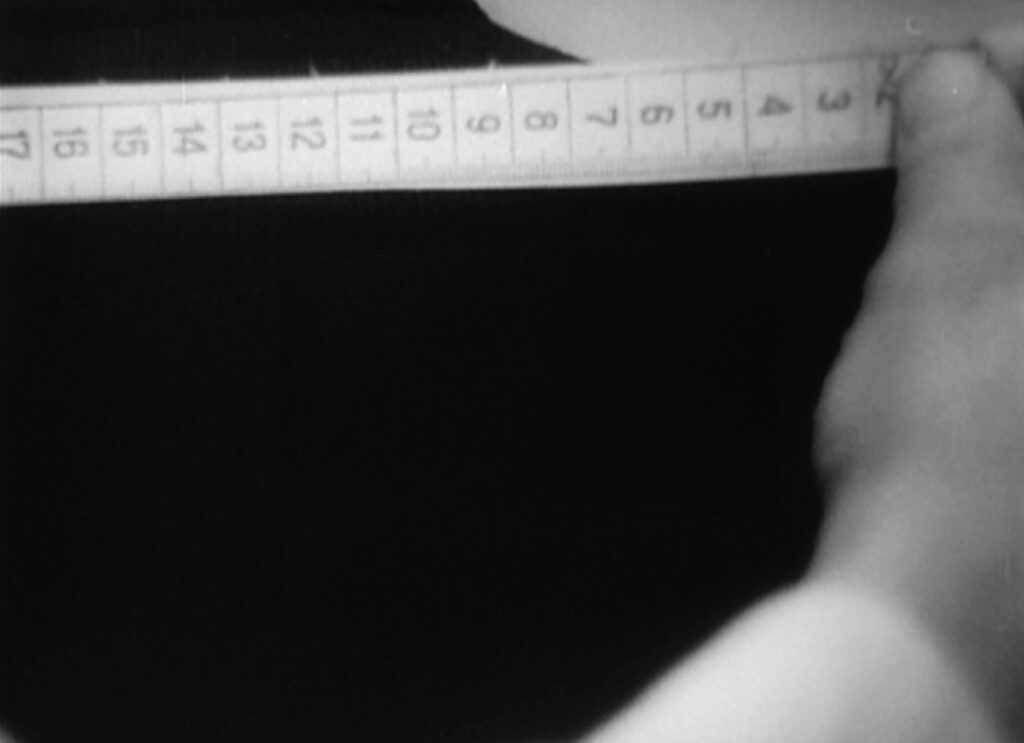 Кадры из фильма «Крылья», 1966
Кадры из фильма «Крылья», 1966
Представляя Надю, главную героиню фильма, Шепитько максимально ограничивает ее в пространстве: она скрыта за многочисленными рамками — экраном, примерочной, зеркалом — и далека от необрамленной уличной жизни в первых кадрах. Ее лицо и тело изображаются на протяжении всей сцены по большей части отрывочно и постоянно загораживаются, а голос практически не звучит. Напротив, портной — который больше в фильме не появится — в эти первые минуты активно занимает экран. Мы сразу видим всю его фигуру, когда он идет в сторону камеры; по ходу сцены он движется, смотрит, прикасается, говорит и слушает; он не только пересекает различные пространства, которые мы видим, но своим появлением и движением диктует необходимость раскрытия пространств, которые ранее были недоступны нашему взгляду. Его действия распространяются во всех мыслимых направлениях, используя пространства в пределах и за пределами его физической досягаемости; действия же Нади едва выходят за рамки ее тела, как будто бы она существует за «экзистенциальным барьером», удерживающим окружающее пространство вне пределов ее досягаемости и делающим его недоступным для ее движения. Кроме того, появление портного дает изображению целостность, считываемость и устойчивость, устраняя неопределенность, с которой начинается картина. Высшей точкой этой визуальной интеграции становится тот момент, когда он фиксирует, стандартизирует Надино тело, благодаря чему создается ощущение, будто он не дает даже ее одежде распространиться за пределы диегетического пространства экрана. Если пролог «Крыльев» представляет собой режиссерскую метафору процессов создания и просмотра кино — где портной соотносится с автором фильма, — то очевидна и роль гендера в этих процессах. Именно при помощи гендерного определения изначальная неопределенная съемка городской улицы трансформируется в выстроенный нарративный фильм.
Ключевые установки, которые формулируются в прологе и задают формальную рамку киноприемов, продолжают действовать на протяжении всего фильма, формируя и меняя положение Нади внутри ее среды и побуждая зрителей непрерывно переоценивать ее место по отношению к экранному пространству. Интерес, который вызывает у Шепитько фигура гуляющей по городу женщины, также приобретает значимость в связи с данными установками. Движение Нади по общественным пространствам Севастополя — улицам, пивным и ресторанам — беспрестанно прерывается присутствием мужчин, которые смотрят на нее. Таким образом, женщина на улице и женщина на киноэкране приобретают одинаковый статус: они не просто находятся там, но находятся там под взглядами других, как выстроенные и обрамленные изображения.

 Кадры из фильма «Крылья», 1966
Кадры из фильма «Крылья», 1966
Через несколько сцен после пролога мы отправляемся вместе с Надей на улицу после того, как она заявляет соседке, что «теперь каждый день» будет ходить в ресторан, чтобы убежать от домашнего одиночества и подышать городским воздухом. Мы видим, как она идет по людной улице, нарочито оглядывается, кидает прямые взгляды на прохожих и останавливается на набережной, чтобы полюбоваться панорамой города. Но начавшись легко и приятно, прогулка быстро превращается в череду неловких и душных встреч, в ходе которых героиня становится объектом мужских взглядов. Сначала ее пристально оценивает и не пускает в ресторан администратор, потому что у нее нет кавалера; затем у окна пивной ее останавливает еще один мужчина, глядящий на нее изнутри помещения и жестами приглашающий зайти; там она оказывается в исключительно мужской компании и среди посетителей узнает своего ученика, который неотрывно и угрожающе смотрит на нее. Важно отметить, что в том же заведении, но уже без посетителей, Надя ближе к концу фильма обретает на мгновение радость, когда вместе с работницей пивной они вспоминают свою юность, начинают петь и, вдохновленные звуками собственных голосов, танцевать. Их всплеск удовольствия неожиданно обрывается, когда они понимают, что сквозь окна на них глазеет целая толпа мужчин. Сцена завершается в полной тишине: две группы, разделенные гендером и стеклами, пристально смотрят друг на друга в неловкости и изумлении. Таким образом, окна в рамках фильма функционируют не как регенеративные элементы новой архитектурной среды, не как места соединения внутреннего и внешнего, частного и общественного в модернистских сооружениях, как это было в картине Данелии, но как устройства для разделения мужчин и женщин по разным сторонам экрана и по разным сторонам городского опыта. И даже когда Надя отвечает мужчинам взглядом на взгляд, именно она неизменно испытывает неловкость, выдавая своим видом то чувство овеществления, которое она испытывает под взглядами мужчин. В поисках собственных впечатлений от города она продолжает оставаться объектом чужих.