Колонизация Америки и крах абсолютизма
Фрагмент книги Джона Льюиса Гэддиса «О большой стратегии»
Джон Льюис Гэддис. О большой стратегии. М.: Издательство Института Гайдара, 2021. Перевод с английского Олега Филиппова и Анны Шоломицкой. Содержание
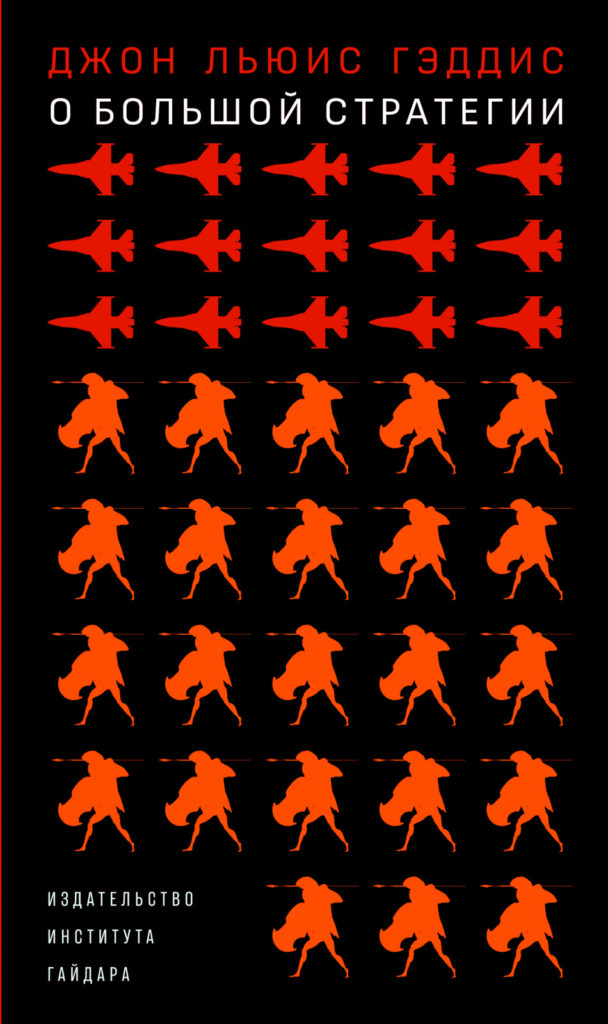 Не будет слишком смелым утверждать, что эхо реальных событий 1588 года, разыгравшихся в проливе Ла-Манш, оказалось достаточно громким и протяжным, чтобы «потрясти полмира». Весь предыдущий век португальцы и испанцы, не имевшие до этого никакого особого сейсмического значения, использовали свои достижения в судостроении и парусном вооружении судов и свое знание ветров и течений для исследования и покорения «странных новых вещей» во всей их беспредельности. «Non sufficit orbis» — девиз Филиппа II и закон жизни его иберийских королевств и приобретенной ими империи — был одновременно и эффектным, и точным: старого мира Евразии, вмещавшей все прежние империи, действительно уже не хватало. Когда Армада снималась тем летом с якоря в Лиссабоне, немногие из наблюдавших, как она исчезает за горизонтом, ожидали чего-то иного, кроме прочного утверждения владычества католических монархий на всем пространстве мира, получившего название «Америки».
Не будет слишком смелым утверждать, что эхо реальных событий 1588 года, разыгравшихся в проливе Ла-Манш, оказалось достаточно громким и протяжным, чтобы «потрясти полмира». Весь предыдущий век португальцы и испанцы, не имевшие до этого никакого особого сейсмического значения, использовали свои достижения в судостроении и парусном вооружении судов и свое знание ветров и течений для исследования и покорения «странных новых вещей» во всей их беспредельности. «Non sufficit orbis» — девиз Филиппа II и закон жизни его иберийских королевств и приобретенной ими империи — был одновременно и эффектным, и точным: старого мира Евразии, вмещавшей все прежние империи, действительно уже не хватало. Когда Армада снималась тем летом с якоря в Лиссабоне, немногие из наблюдавших, как она исчезает за горизонтом, ожидали чего-то иного, кроме прочного утверждения владычества католических монархий на всем пространстве мира, получившего название «Америки».
Да и как Бог мог оказаться не на стороне христианских королевств Кастилии и Арагона, если за один только 1492 год они сумели вытеснить своих мусульманских соседей с их земель, изгнать собственных евреев и почти между делом увеличить размеры всего известного мира? Если годом позже они, наряду с Португалией, получили на основании папского эдикта права на новые территории? Если Испании потребовалось только три года, чтобы завоевать Мексику, и чуть дольше — чтобы установить контроль над Перу и обеспечить себе практически неиссякаемые источники золота и серебра? Если она сумела, пользуясь этими богатствами, установить единый административный порядок и даже единый архитектурный стиль на двух еще не исследованных континентах? Если она уже начертала для их столь разных обитателей единый путь к спасению? Для свершений такого масштаба мало одной уверенности в себе: они предполагают знание Божьей воли и соответствие ей.
Но через двести тридцать пять лет после отплытия Армады один государственный деятель непреклонных протестантских убеждений составлял в окруженной болотами новой столице светского государства столь же самонадеянное заявление своего республиканского суверена: «американские континенты, добившиеся свободы и независимости и оберегающие их, отныне не должны рассматриваться как объект будущей колонизации со стороны любых европейских держав». Когда в 1823 году государственный секретарь «Соединенных Штатов Америки» Джон Куинси Адамс сделал доктрину Монро девизом этой страны, у нее еще не было средств защитить «Новый Свет» от его «старых» хозяев. Но у нее была та же вера в себя, что и у Испании времен ее величайших свершений, и Адамс понимал, что этого достаточно.
«Поражение испанской Армады, — утверждал Джефри Паркер, — сделало американский континент беззащитным перед вторжениями и колонизацией североевропейцами, создав тем самым условия для возникновения Соединенных Штатов». Если это верно, то единственный вечер 7 августа 1588 года стал, благодаря удачному направлению ветра, умелым действиям лорда-адмирала и нескольким брандерам, поворотной точкой, определившей будущее. Если бы Филипп одержал победу, он заставил бы Елизавету прекратить все плавания англичан в Америку. Но с момента, когда его капитаны приказали рубить якорные канаты, начался медленный закат Испании и постепенное наступление нового мирового порядка.
I
Во времена Армады заокеанская экспансия англичан только начиналась. Слово «колония» означало для них Ирландию. Название острова Ньюфаундленд, на берегах которого они высаживались, ассоциировалось для них с рыбой. «Исследование новых земель» означало акционерные компании, первая из которых имела внушительный титул, «Мистерия: общество и товарищество купцов-искателей приключений для открытия неведомых земель», но выбрало неверную цель: в эпоху всемирного похолодания она направила все свои усилия на поиск торговых путей в Китай через Гудзонов залив и вокруг севера России. Кругосветное плавание Дрейка в 1577–1580 годах говорило об интересе Елизаветы к дальним мирам, но к этому времени Испания уже полвека контролировала Карибское море, Мексику и обширные области Южной Америки. Первое английское поселение было создано сэром Уолтером Рэли на реке Роанок в Северной Америке только в 1584–1585 годах, но это предприятие имело скорый и унизительный конец.
Да, Испания вырвалась вперед, но Елизавета не торопилась догонять ее. Она позволяла своим купцам рисковать собственными судами и поселенцами, но не ее флотом или деньгами ее казначейства. Она потворствовала операциям Дрейка, который наводил страх на испанцев, но не питала никаких иллюзий по поводу того, что одни его налеты смогут обезопасить ее державу. Понимая недостатки чрезмерной регламентации в духе Филиппа, она стремилась сделать свои заморские предприятия самодостаточными. Они начинали интересовать ее только тогда, когда она убеждалась, что в них также присутствуют интересы других — в основном, хотя не исключительно, коммерческие. Так она заложила исходную матрицу будущей Британской Америки: «сборной солянки» колоний, не имеющих общей цели, связанных скорее с морем и Англией, чем друг с другом, растянувшихся по побережью от Массачусетса до Джорджии тонкой полосой длиной в полторы тысячи километров и управляемых по большей части в мягкой и необременительной, если не сказать рассеянной, манере.
Испанская Америка имела к 1750-м годам в шесть раз больше населения и во много раз больше территории и ресурсов, чем ее северный сосед. По великолепию городов, исправности дорог и единообразию порядков она не уступала Римской империи: здесь не было ничего похожего на рассеянность. Историк Джон Элиот писал, что человек благородного сословия, живущий в Мехико и приехавший в Лиму — город, расположенный на четыре тысячи километров южнее — чувствовал бы себя совершенно как дома: «Гражданские учреждения были одинаковы; богослужебные обряды также ничем не отличались». Ничего подобного нельзя было сказать о британских колониях, «где разное происхождение жителей, разные мотивы для эмиграции и разные религиозные верования и обряды создали мозаику из разных поселений, возникших в самое разное время и самыми разными способами». Представьте себе молодого Джона Адамса, отца Джона Куинси, среди плантаторов Вирджинии или рабовладельцев Южной Каролины: контраст культур был бы почти таким же резким, как если бы он и вправду оказался в Лиме.
Испания, подобно Риму, схватывала своеобразие единством. Это могло давать впечатляющие результаты, потому что иначе экспансия двух этих империй вряд ли оказалась бы столь масштабной и быстрой. Но оборотной стороной этого процесса были их неглубокие корни: при любых неурядицах власть начинала шататься. Англичане распространяли свое влияние медленнее, но легче адаптировались к изменениям условий, особенно в Северной Америке: когда здесь начались проблемы, это окончилось республиканским революционным трансфером власти, а не распадом государства, пример которого подрывал основы империй по всему свету еще два столетия.
II
И все же как необременительная — если не сказать невнимательная — власть могла дать такой результат? Мне кажется, ответ на этот вопрос как-то связан с необходимостью приспособления фундамента постройки к почве, на которой она стоит. Деспотическая и целеустремленная власть может порождать внешне монументальные строения, но лишь ценой сглаживания рельефа или даже полного разравнивания площадки в духе Ксеркса и современных автострад. Но такая плоская топография невозможна по определению, ибо неровности земли отражают ее природу: континенты движутся, сталкиваются, скользят и наезжают друг на друга. Рассчитывать на стабильность — один из самых верных способов оказаться среди руин. Запас гибкости позволяет смягчать неожиданные потрясения.
Таким образом, могут быть причины для сопротивления единообразию, учета особенностей ландшафта и даже нерешительности и проволочек. Так царствовала Елизавета, которая ввела такие новшества, как правление без брака и религиозная терпимость (конечно, в известных пределах), и создала предпосылки для удивительного расцвета языка. Каждое из этих следствий было реакцией на обстоятельства, ни одно из них не проистекало из каких-то грандиозных замыслов. Такой же гибкостью могла отличаться и деятельность ее акционерных обществ. «Отсутствие жесткого контроля со стороны британской короны на ранних этапах колонизации, — пишет Элиот, — создавало значительный простор для развития тех форм правления, которые казались наиболее подходящими людям, активно участвовавшим в заморских предприятиях и создании заморских поселений — как тем, кто давал деньги на эти проекты, так и самим поселенцам — при условии, что они не нарушали положений королевской хартии».
В отличие от испанских колоний в Новом Свете, а также территорий по берегам Великих озер, реки Святого Лаврентия и Миссисипи, на которые позднее заявила свои права (но почти не заселила) Франция, Британская Америка «представляла собой общество, чьи политические и административные учреждения скорее росли снизу, чем навязывались сверху». В итоге из нее получился крайне пестрый организм, который был, однако, сложной системой с высокой адаптивной способностью.
Ученые утверждают, что такие системы формируются в условиях необходимости частого — но не слишком — реагирования на непредвиденные ситуации. Жестко контролируемые структуры вызывают излишнюю самоуспокоенность, которая осложняет решение проблем при сбоях систем управления, которые рано или поздно происходят. С другой стороны, если такие сбои происходят постоянно, система не имеет времени на восстановление нормального режима и постоянно находится в лихорадочном состоянии. Таким образом, в природе наблюдается баланс между процессами интеграции и распада, и именно здесь, на «границе хаоса», обычно происходит адаптация, и особенно самоорганизация. Новые политические миры развиваются по тем же законам.
III
Британские североамериканцы жили на нескольких границах одновременно: на границе безбрежного, но судоходного океана, на границе континента, права на который заявила Испания на юге и Франция на севере и западе, а также на границе разлада, порожденного в метрополии преемниками Елизаветы, чьи гироскопы работали гораздо хуже гироскопов самой Елизаветы. Она с таким мастерством очаровывала, запугивала и улещивала парламент, то прислушиваясь к его мнению, то игнорируя его, что между ними никогда не случалось прямой конфронтации. Первые Стюарты, в отличие от нее, то и дело затевали драки, из которых не могли выйти победителями. Они также стерли различие между тем, во что люди верят, и тем, что они делают, которое четко проводила покойная королева, играя с огнем в то самое время, когда Европа уже вползала в Тридцатилетнюю войну, вызванную именно религиозной рознью. К 1642 году гражданская война разразилась и в Англии, и ее причины были столь сложными, что историки до сих пор спорят о том, кто с кем и за что воевал. Через семь лет Карл I поплатился за этот конфликт собственной головой.
Насилие, а также надежда на новые коммерческие возможности, религиозную терпимость и менее деспотическое правление в Америке — все это подталкивало людей к эмиграции. События внутри страны, требовавшие жестких репрессивных мер, даже неудавшийся республиканский эксперимент (при Оливере Кромвеле) — все вынуждало Лондон мириться с «мозаикой поселений» в колониях. К тому времени, когда Карл II сделал мягкое правление собственным путем к «реставрации» 1660 года, этот стиль многообразия уже прочно установился за океаном.
«Ленивое, долгое и развратное» царствование Карла II завершилось в 1685 году восшествием на престол его более «упертого» брата Якова II, чье правление было отмечено только последней из указанных трех черт. Будучи ревностным католиком, он вознамерился вернуть Англию под руку Рима и при этом «модернизировать» ее в духе централизованного правления французского короля Людовика XIV, причем колонии вскоре должны были последовать примеру центра. Но когда через три года у Якова родился сын и стало возможным католическое престолонаследие, Вильгельм Оранский, протестантский штатгальтер Голландии и муж дочери Якова протестантки Марии, предпринял самое удачное вторжение через Ла-Манш со времен первого Вильгельма, высадившегося в Англии в 1066 году. Яков был свергнут, Вильгельм и Мария заняли его место, и американцы вновь оказались предоставлены самим себе. «Революция» 1688 года дала им возможность продолжить свою эволюцию, причем созданный ею прецедент оправдывал сопротивление любым будущим попыткам остановить развитие того, чему до этого позволено было развиваться.
Уроки 1688 года, как писал главный идеолог этого переворота Джон Локк, заключались в том, что «может быть всего одна верховная власть, а именно законодательная, которой все остальные подчиняются», и однако «по-прежнему остается у народа верховная власть устранять или заменять законодательный орган». Два эти принципа кажутся противоречащими друг другу: как возможны две верховные власти? Тем не менее именно эта головоломка, по мнению современного историка Роберта Тумза, заложила основания всей политической культуры Англии после Стюартов:
Недоверие к утопиям и фанатикам, вера в здравый смысл и опыт, уважение к традиции, предпочтение постепенных изменений и убеждение в том, что «компромисс» есть не предательство, а победа — все это стало результатом поражений как монархического абсолютизма, так и религиозного республиканизма — поражений, которые обошлись дорого, но принесли свои плоды.
Эти основания были «в духе» Елизаветы (подходящее словечко Макиавелли). Хотя Ее Величество не приветствовала бы «конституционную» монархию, она поняла бы преимущества уравновешивания противоположностей, ибо сама ежедневно практиковалась в этом искусстве. Она сочла бы попытки своих преемников примирить противоположности опасной глупостью. Она все-таки смыслила что-то в искусстве политического садоводства: растения растут лучше всего, когда садовник не боится разнообразия и не слишком пристально присматривается к корешкам. Так что она, вероятно, одобрила бы слова Эдмунда Бёрка.