Кое-что для алеаторного гнозиса
Из «Теории одиночного мореплавателя» Жиля Греле
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Жиль Греле. Теория одиночного мореплавателя. М., Пермь: Ад Маргинем, Hyle, 2025. Перевод с французского Артёма Морозова. Содержание
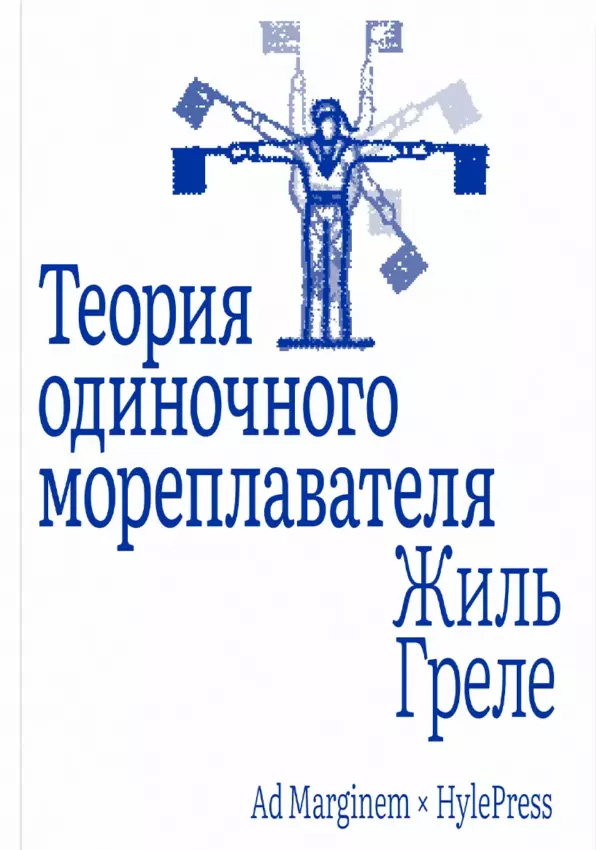
ПУНКТ 11
[11.1] Гностик говорит: Мир? Спасибо, не надо. Я в нем, но не от него. И каноническая Бретань — гностическая. Требовать гнозиса, имени столь же ученого, сколь и дикого, имени четвертованного четвертования, — значит иметь возможность добавить: Я тут проездом. Кстати, мне вновь пора улетать. Смотрите за моими крыльями.
[11.2] В предикате кроется опасность, от которой должно уберечься имя существительное. Эта опасность, присущая антифилософии внутренне, проистекает из до сих пор сугубо материалистического определения ее ангелизма — и даже более того, из материализма, чья образность, сосредоточенная вокруг фигуры рычага, заигрывает с самой рудиментарной его версией, а именно — с механицизмом. На поверхности парадокс заключается в том, что в той мере, в какой Бретань материалистична, она утверждается как гностическая. Но антифилософия в равной степени и материализм, и гнозис, причем эти два термина спасают друг друга от взаимных заблуждений. Антифилософская Двоица прежде всего достойна самой антифилософии.
[11.3] Признавая место обоснованным, антифилософия находит в Бретани антиполитическое укоренение, которое, в свою очередь, возвращает Бретань к самой себе, то есть не к идентичности, а к ее радикальности. И именно опираясь на радикал Бретани, своего рода метафизическую Архимедову точку, антифилософия получает материалистические средства своего ангелизма, оказываясь способной на создание рычага для приподнимания мира. Может так не показаться, но замысел довольно скромный: никаких притязаний на то, чтобы поднять мир ради того, чтобы его перевернуть, коль скоро мир только из-за переворачиваний и остается в живых; цель вполне определенная — здесь и в настоящем начать регулярно дышать полной грудью, избавившись посредством институциональной благодати от бремени мира: сделать бунт против мира пригодным для жизни.
[11.4] Бретань дает одиночке и в особенности плавучему месту одиночного мореплавателя укорененность, которая, предшествуя формуле его бунта, предоставляет ему свою константу. Это делает ее шишковидной железой бунта людей против мира — точкой, в которой мысль и протяжение, душа и тело, теория и метод взаимосвязаны. И связь эта является необходимой.
[11.5] И именно в том, чтобы сделать бунт пригодным для жизни — придать ему позитивность, обыкновенность, — кроется предикативная опасность. Ведь вернуть Бретань к самой себе — значит в конечном счете вновь поставить ее на гностические ноги. А бунт нуждается не столько в ногах и в том, чтобы на них встать, пусть даже ноги эти будут гностическими, сколько в том, чтобы вновь открыть свои крылья гнозиса, то есть сделать что? — Позволить людям вновь открыть свои крылья. Вернее, ей нужны ноги, но только для того, чтобы помочь ей взлететь.
[11.6] В Каноне антифилософский ангелизм обрел свое первое крыло — материализм; в Органоне он должен обрести свое второе крыло — гнозис.
ПУНКТ 12
[12.1] Гнозис — это ангелическая канонада в том смысле, в каком Грак описывает свое открытие наиболее удаленной точки КапСизёна, которая располагается в самом конце самого конца Бретани. «Облегченный автобус взлетел, как перышко, преодолевая последний крутой подъем на плато мыса (в то время свободное от вреда отелей и бесчестья паркингов), и вдруг море, которое мы долго обходили слева, стало виднеться справа, в направлении Трепасе и Пуэнт-дю-Ван. Это и был тот самый момент: у меня сжалось горло, я почувствовал первые толчки морской болезни в пустом желудке; я в секунду осознал, буквально и материально, огромную массу Европы и Азии, оставшуюся позади меня, и ощутил себя снарядом на конце пушки [canon], внезапно выплюнутым на свет».
[12.2] Ошибкой будет вообразить, будто канон сводим к каноническому. Но автор предупреждает нас сразу после описания опыта Бретани, принятого за гнозис или ангельский канон: «Ни там, ни где бы то ни было еще я больше никогда не находил того космического и жестокого ощущения полета — пьянящего, веселящего, — которого я никак не ожидал».
[12.3] Оппозиция канонического и канона слаба настолько же, насколько сильны ее последствия, коль скоро канон находит в них способ инвертировать знаки канонического. Бретань как гностическая: стабильная, твердая, постоянная и даже универсальная константа; Бретань как гнозис: шаткая, хрупкая и непостоянная. Каноническое — сама регулярность, канон — внезапность. Альтюссер разработал материализм встречи, также известный под именем «алеаторного» материализма; я воспользуюсь этим термином в отношении Бретани как канона, который выступает алеаторным гнозисом.
[12.4] Полет — транспорт и транспортировка, как в литературном, так и в буквальном смысле слова, которые гнозис допускает или, лучше сказать, в которых гнозис состоит, — является контингентным и ненадежным, его пришествие или повторение никогда не гарантированы. Ангелическая субъективация — это благодать, и как таковая она редка и разделена на последовательности. Но в определенной степени, которая является мерой институции, благодать регуляризируется, а контингентность провоцируется. И каноническая Бретань — это провоцирование контингентности своего канона: Двоица Бретани сопоставляет в режиме методической провокации необходимость Бретани-гностической и контингентность ее гнозиса.
[12.5] Бретань — архетип устройства для провоцирования контингентности гнозиса. Армориканский мегалитизм, несомненно, самое грандиозное из ее извращений, великолепная попытка одомашнивания в контексте неолитической революции, которая основала мир, в котором мы находимся. «Пока народы континента бороздили почву, сеяли семена и строили деревни на суше и в озерах, — пишет Ле Браз, — жители Арморики <...> были заняты строительством невероятных некрополей на своих берегах, достаточно больших, чтобы вместить тысячи усопших — разумеется, своих собственных, но также, несомненно, из соседних племен. Как могли члены этих племен не стремиться к <...> погребению на этом краю заката, на этом „крае земли“, на этом „конце света“, который они <...> склонны были воспринимать как порог иного мира...? Так, Арморика стала постоянным преддверием потустороннего, своего рода залом ожидания вечности, к которому, как можно предположить, в определенные даты <...> со всех сторон отправлялись торжественные процессии, сопровождавшие грузы из пепла и костей. На долю местных жителей выпал труд — как можно догадаться, очень хорошо вознаграждаемый — по возведению дольменов, их охране и содержанию, по совершению ритуальных возлияний над ними, по организации внушительной пышности и торжественности коллективных захоронений, расположенных по ходу аллей столбов, соединяющих их, наконец, труд по снабжению армии жрецов и религиозных подчиненных, ответственных за отправление этих мрачных панегириков: они буквально жили за счет смерти».
[12.6] Бретонский мегалитизм в том виде, в котором он проникновенно воссоздан в археологических спекуляциях Анатоля Ле Браза, можно рассматривать как попытку — безусловно первую, от которой у нас остались следы (и какие следы!), — социализировать гнозис, в чем и заключается Бретань как канон. Добавляя к Двоице Бретани (как устройству для провоцирования контингентности гнозиса) Двоицу мирозатворения бунта против мира, мегалитизм при его рождении на Армориканском полуострове мог быть попыткой затронуть человека на его глубочайшем уровне посредством и путем коллектива, создать «по конвейерной цепи» народ ангелов, другими словами, он мог быть настоящей культурной революцией, тупик которой был бы соизмерим с силой ее разворота к мирскому.
[12.7] Я измышляю фикцию — догадку, согласно которой мегалитическая культурная революция в самом ее преждевременном неуспехе есть матрица неолитической революции, которая все еще идет сегодня, и идет сегодня более чем когда-либо.
[12.8] Даже в качестве догадки армориканская мегалитическая культурная революция сама по себе архетипична в своем тупике: это архетип тупика в социализации бунта. Нет никакого бунта — бунта строгого, который не был бы подобием или сходством, — кроме одиночного, одиночек. Проблема камбоджийской культурной революции, приведшая к ужасающей катастрофе, заключалась, несомненно, в попытке перевернуть мир, опираясь при этом на последний мирской пункт, а именно на труд, опустошив при этом все остальное; но эта порочная круговерть, с(п)екуляризация бунта через труд, под властью которой вся Камбоджа была превращена в трудовой лагерь, стоит в порядке причин лишь на втором месте: первенство тут принадлежит тщательному разрушению одиночества через разрушение индивида. В моей фикции крайнее величие армориканского мегалитизма, превращающее тупик в архетип, объясняется тем, что между аннигиляцией [vidange] мира (предварительной, поскольку на деле из мира едва ли существовало что-то, кроме разрозненных общин) и ангелизацией жизни [vie d’ange] мегалитизм обращается к хендже-лицевости [vit d’henge] — ломаным контурам лица самого полуострова или каменной пунктирности бретонского финистера.
[12.9] Бунт, который не был бы подобием или сходством, — это аннигилирование мира [vidange], дающее место ангелированной жизни [vie d’ange] при помощи одиночного обращения к устройству для провоцирования ангельской контингентности: к финистеру, хендже-лицевости [vit d’henge], чьим архетипом является Бретань. Мирской тупик бунта в условиях одиночества выворачивается наизнанку, становясь ангелическим мысом, иногда способным дать крылья застою, даровать человеку крылатую статику, единственно лишь и способную предотвратить мирской поток (а также предотвратить реактивный, основанный на идентичности застой, на контрасте с которым и становятся видны крылья).
[12.10] Vidange, vit d’henge, vie d’ange. У Бретани, учрежденной в качестве гнозиса или ангелического канона, есть потрясающее сексуальное измерение, которое, более того, уже имплицитно присутствует в письме Грака, по ту сторону или скорее через посредство несравненного энтузиазма [jaculation], явно отраженного в его строках о Кап-Сизюне. Именно опыт собственной эякуляции Бретанью описывает автор. Радикализированные люди, вновь распахнув крылья, могут иметь благодать быть эякулированными, выплюнутыми на свет алеаторным каноном такого финистера, как Бретань.
[12.11] Финистер, то есть встреча, гнозис встречи, органон навигации, является сексуальным.
ПУНКТ 13
[13.1] Финистер — родовая Бретань.
[13.2] «Финистеры — Ирландия, Бретань, испанская Галисия, Португалия, первые острова Океана... На дне их душ паника», — пишет Эухенио д’Орс в самом конце своего исследования, посвященного барокко, являющегося для него постоянной категорией мышления, которая, сталкивая человека и общество, одну из своих главных фигур находит в Робинзоне Крузо Даниэля Дефо. «Паника, доставшаяся нам из незапамятных времен, когда эти земли стояли на краю моря, не знавшего границ. Нельзя безнаказанно занимать самую близкую к сцене ложу в театре тайн».
[13.3] Паника — это несомненно, но и ликование тоже. Паника и ликование приличествуют встрече с бесконечным — приличествуют встрече вообще, ибо существует только встреча с другим, а единственным другим конечности является бесконечное. Конец земли [fin de la terre] — это встреча, причем двойная, как для зрителя, которого представляет себе д’Орс, так и для актера, которым он пренебрегает. Это пассивная встреча, происходящая на берегу, на краю земли, там, где начинается море. Активная встреча — это встреча конечности, которая охватывает бесконечность и, охватывая ее, проецируется на нее или проецирует в нее тех, кто ее населяет.
[13.4] Финистер есть встреча и как необходимость, и как контингентность. Встреча, с одной стороны, как каноническая необходимость, окружение, свойственное финистеру, разделительное лишь постольку, поскольку это берег, то есть встреча с морем. Встреча, с другой стороны, как контингентность канона, случайность гнозиса, катапультирования в свет.
[13.5] Финистер, Двоица, ориентированное — или скорее окцидентированное (с измерением оказии, случайности, благодати и, стало быть, отправляющееся от падения, неудачи, свертываемых в акциденции, которая слышится в «окциденции») — соприсутствие необходимого окружения и контингентного отворения, канонической встречи и ужаса, который она провоцирует, делая возможным канон встречи и ликование, в котором он заключается. Все ангелы, разумеется, страшны, но только для тех, кто их наблюдает. С другой стороны, все ангелы — это чистый энтузиазм для тех, кто исполняет их роли.
[13.6] Как устройство по провоцированию благодати финистер — это место встречи, место отрыва от мира: место радости. И неслучайно мы называем местами радости закрытые места, которые осуждает мир — этот гнусный бордель под открытым небом, чья практика — это шлюха, а философия — содержательница.
[13.7] На шкале радости Полинезия, несомненно, не просто еще один финистер, но другой архетипический финистер наряду с Бретанью, по крайней мере, по мнению Сегалена, который не дает повода думать, что он перегибает палку: «На протяжении двух лет в Полинезии я плохо спал от радости. Я просыпался в слезах от опьянения предстоящим днем». Два года чрезвычайной радости! Для алеаторного гнозиса это уже кое-что. Надо полагать, что в Полинезии ангел — марафонец благодати.
Читателей, желающих понять чуть больше в этом фрагменте в частности и в антифилософии вообще, отсылаем к тексту переводчика книги Жиля Греле, написанному специально для «Горького» (а также отсылаем к его, переводчика, телеграм-каналу).