Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Жюль Мишле. История. Подарочное издание в десяти книгах. М.: Ладомир, 2022. Издание подготовили Ю. В. Гусева, А. В. Гордон, Н. Т. Пахсарьян
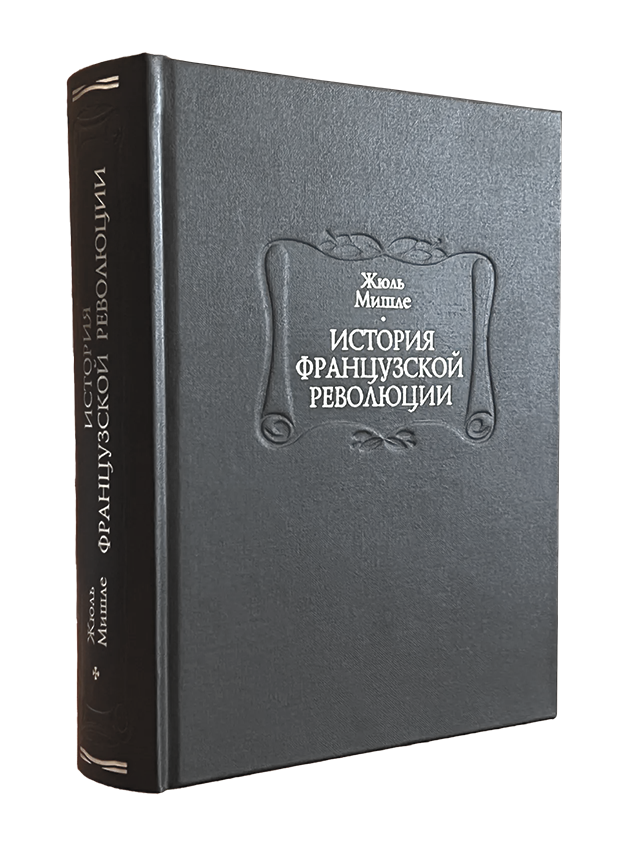 Несколько слов о том, как создавалась эта книга. Она родилась в недрах архивов. Я писал ее шесть лет (с 1845 по 1850 год) в центральном хранилище, где занимал пост руководителя исторического отдела. После событий 2 декабря я затратил на работу над ней еще два года и закончил ее в архивах Нанта, близ Вандеи, чьи драгоценные собрания материалов тоже исследовал.
Несколько слов о том, как создавалась эта книга. Она родилась в недрах архивов. Я писал ее шесть лет (с 1845 по 1850 год) в центральном хранилище, где занимал пост руководителя исторического отдела. После событий 2 декабря я затратил на работу над ней еще два года и закончил ее в архивах Нанта, близ Вандеи, чьи драгоценные собрания материалов тоже исследовал.
Вооружившись законодательными актами, подлинными документами и рукописями, я должен был по достоинству оценить печатные издания и в особенности мемуары, представляющие собой защитительные речи, а иногда и искусные подражания (вроде того, что Рош написал от имени Левассёра).
Я мог вполне судить о том, что писал день за днем «Монитёр», за которым слишком доверчиво следовали господа Тьер, Ламартин и Луи Блан.
С самого начала эти материалы ежевечерне просматривались и исправлялись сильными мира сего. До 2 сентября их искажала Жиронда, а 6-го — Коммуна. Так происходило при всяком серьезном кризисе. Письменные протоколы Учредительного и Законодательного собраний зримо свидетельствуют об этом, изобличают газету и ее переписчиков, авторов «Парламентской истории» и всех прочих, кто нередко еще сильнее калечит и без того искалеченный «Монитёр».
Очень редкое преимущество наших хранилищ документов, вряд ли свойственное всякому иному архиву, заключается в том, что для каждого важного события я находил в них очень разные сведения и многочисленные детали, дополняющие и уточняющие друг друга.
О движении Федерации в моем распоряжении оказались сотни рассказов, присланных из сотен городов и деревень (обнаруженные в Центральном архиве). О страшных трагедиях революционного Парижа я смог узнать много нового в Ратуше, где мне был открыт доступ к реестрам Коммуны, а Префектура полиции позволила ознакомиться со всем богатством протоколов сорока восьми столичных секций.
Что касается правительства, Комитетов общественного спасения и общей безопасности, то я имел перед глазами все их реестры и описи и мог день за днем проследить хронологию их деяний.
Порою меня порицали за то, что я слишком редко указывал свои источники. Я делал бы это чаще, если б речь шла о разрозненных документах. Но обыкновенно подспорьем мне служили обширные коллекции, где все расположено в хронологическом порядке. Когда я привожу дату какого-то факта, его без труда можно найти в реестре, папке за это число, откуда он и был позаимствован. Потому мне не было нужды часто указывать источники. Что же до печатных и широко известных работ, то ссылки на них, не слишком полезные, разрывали бы ткань повествования, нить рассуждений. Не стоит напоказ усеивать страницы своих трудов сносками, указующими на известные книги или незначительные брошюры, и привлекать к этому внимание. Весомость повествованию придают его связность и последовательность — в гораздо большей мере, чем множество упомянутых в нем библиографических редкостей.
В силу этого столь важного обстоятельства мое повествование полностью соответствует документам и столь же непреложно, как и они. Я делал больше, чем просто выписки, я собственноручно (и без посторонней помощи) копировал разрозненные тексты и собрал их воедино. Результатом этого стали ясность, уверенность, которые ничто уже не сможет поколебать. Пусть сколько угодно критикуют мои интерпретации тех или иных событий. Но необходимо прежде всего признать, что именно из моей книги получены те сведения и факты, которые хотят использовать против меня.
Те, кто имеет глаза и способен видеть, очень быстро заметят, что мое повествование, порой слишком взволнованное, а возможно, и бурное, лишено неясностей и недомолвок, не путается в пустопорожних обобщениях. Ибо этим не удовлетворились бы моя страстная душа и та пылкость, которую я вкладывал в свою работу. Она искала, жаждала понять характер, личность, индивидуальность, совершенно особую жизнь каждого участника этой драмы. И персонажи здесь ни в коей мере не являются воплощением идей, систем, политическими тенями; над каждым из них я работал, глубоко изучал их, чтобы понять, какими они были в действительности. Даже те, к кому я проявлял суровость, в чем-то выигрывают от того, что показаны живыми людьми. Я нисколько не льстил Робеспьеру. И что же? То, что я рассказал о его частной жизни, о столяре, о мансарде, о сыром маленьком дворике, все же озарившем лучом света его мрачную жизнь, — все это нашло отклик, и один из моих друзей, принадлежащий к совсем противоположной партии, признался мне, что при чтении этих страниц прослезился.
Ни один из этих великих людей Революции не оставил меня равнодушным. Разве не жил я их жизнью, не следовал, как верный спутник, за каждым поворотом их мысли до самых глубин ее? Со временем я стал одним из них, своим в этом странном мире. Я обрел особое зрение, позволяющее различать их тени, и, уверен, они тоже узнавали меня. Они видели, как я оставался с ними наедине в галереях архива, огромных хранилищах, куда редко заглядывали люди. Порою я находил закладку на том месте, где Шометт или кто-то другой оставил ее в свой последний день. Иногда мой утомленный взгляд выхватывал в книге записей Клуба кордельеров неоконченную фразу, внезапно оборванную рукою смерти. Пыль веков. Как хорошо дышать ею, бродить среди этих бумаг, папок и описей. Они не безмолвны и вовсе не так мертвы, как кажутся. Всякий раз, когда я касался их, что-то возникало в них, пробуждалось: то была — душа.
Перевод Юлии Гусевой
