Как совместить революцию со свободой и порядком
Фрагмент книги Ванессы Рэмптон «Либеральные идеи в царской России»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Ванесса Рэмптон. Либеральные идеи в царской России. От Екатерины Великой и до революции. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2024. Перевод с английского Ильи Нахмансона. Содержание
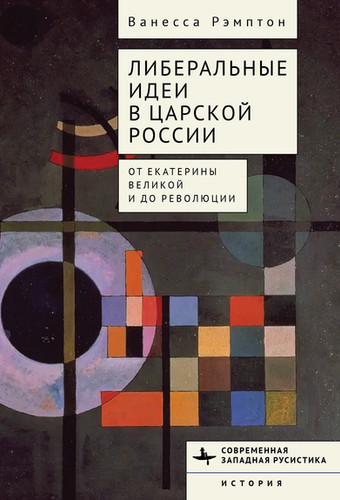 В России 1905 года вопрос о том, насколько либеральные взгляды совместимы с принятием идеи революции, был самым что ни на есть практическим. После всех попыток добиться установления общественного строя, в котором соблюдались бы права человека и главенствовал принцип верховенства закона, либералы вынуждены были признать тот факт, что никакие гражданские формы протеста не оказали воздействия на царское правительство, чьи беспощадные разгоны мирных демонстраций, самым известным из которых стало Кровавое воскресенье 9 января 1905 года, в определенной степени оправдывали действия экстремистских групп. Однако по мере того, как революционное движение набирало силу и росло число террористических актов, забастовок с применением силы и бунтов, либералы все яснее стали осознавать важность государства в деле сохранения порядка и тот факт, что без этого порядка столь ценимые ими права и свободы защитить невозможно. В бурных спорах о том, как именно следует противостоять самодержавию, мировоззрение членов «Союза освобождения», который впоследствии превратился в кадетскую партию, формировалось в зависимости от быстро меняющихся событий того времени.
В России 1905 года вопрос о том, насколько либеральные взгляды совместимы с принятием идеи революции, был самым что ни на есть практическим. После всех попыток добиться установления общественного строя, в котором соблюдались бы права человека и главенствовал принцип верховенства закона, либералы вынуждены были признать тот факт, что никакие гражданские формы протеста не оказали воздействия на царское правительство, чьи беспощадные разгоны мирных демонстраций, самым известным из которых стало Кровавое воскресенье 9 января 1905 года, в определенной степени оправдывали действия экстремистских групп. Однако по мере того, как революционное движение набирало силу и росло число террористических актов, забастовок с применением силы и бунтов, либералы все яснее стали осознавать важность государства в деле сохранения порядка и тот факт, что без этого порядка столь ценимые ими права и свободы защитить невозможно. В бурных спорах о том, как именно следует противостоять самодержавию, мировоззрение членов «Союза освобождения», который впоследствии превратился в кадетскую партию, формировалось в зависимости от быстро меняющихся событий того времени.
В такой обстановке вопрос о соблюдении баланса между позитивной и негативной свободой был частью более общей проблемы, занимавшей умы всех российских граждан, желавших участвовать в политической жизни страны и вместе с тем сознающих недостатки существующей системы.
Свобода и революция
На фоне всеобщего недовольства властью, охватившего рабочих и крестьян, известия о поражении русского флота под Цусимой в мае 1905 года превратили ситуацию в Российской империи из беспокойной во взрывоопасную. Последовавшие за этим волнения: почти всеобщая забастовка, уличные беспорядки в Одессе и восстание на броненосце «Потемкин» — еще больше увеличили вероятность того, что с подачи революционных партий может начаться общенациональное восстание.
Умеренные либералы, верившие, что преобразования можно будет провести в рамках существующего государственного строя и в сотрудничестве с властью, были разочарованы полным нежеланием правительства запускать процесс полномасштабных реформ и его готовностью применять насилие по отношению к протестующим массам. После провалившейся попытки обратиться лично к царю через посредничество видного философа-неоидеалиста и земского деятеля князя С. Н. Трубецкого эти люди задумались о допустимости более радикальных методов протеста. Даже Маклаков, впоследствии заявлявший, что либералы должны были больше сотрудничать с властью, писал тогда, что в череде крестьянских восстаний винить нужно было исключительно экономическое неравенство и систему правления в России. Многие земцы, до того категорически возражавшие против политики террора, готовы были признать, что насилие оказалось эффективным методом воздействия на правительство, подтолкнув его хотя бы к тем реформам, на которые оно оказалось готово пойти. В такой обстановке только малая часть либералов продолжала говорить об абсолютной ценности прав и свобод человека и о неприемлемости применения насилия даже в теории.
Другие «освобожденцы» стали все активнее склоняться в сторону более радикальных мер, особенно после событий Кровавого воскресенья, по итогам которого Струве назвал Николая II «врагом и палачом народа». На страницах «Освобождения» он утверждал: «Активную, революционную тактику на современной стадии русской „смуты“ я считаю единственно разумной для русских конституционалистов». В мае 1905 года Милюков создал черновик воззвания к русскому народу, который его биограф М. Стокдейл называет «самым радикальным документом, когда-либо им написанным». Вот что там говорилось: «Мы должны действовать, как кто умеет и может, как кто способен или считает нужным по своим политическим убеждениям. Как угодно, но действовать. Все средства теперь законны против страшной угрозы, заключающейся в самом факте дальнейшего существования настоящего правительства». В заключение он писал, что во время революции пацифизм является лицемерием, поскольку говорящие о нем, сами воздерживаясь от применения силы, извлекают выгоду из того, что это делают другие.
По мере того как «освобожденческое» движение в целом сближалось с социалистическими партиями, его участники тоже все сильнее склонялись к концепции позитивной свободы. Социально-экономическая программа «Союза освобождения», принятая на его III съезде в марте 1905 года, учитывала пожелания рабочих и крестьян и предусматривала возможность передачи земли в обмен на вознаграждение, а также устанавливала трудовое законодательство, в частности введение восьмичасового рабочего дня. Летом земцы, традиционно бывшие самыми консервативно настроенными участниками «освобожденческого» движения, уже начали требовать всеобщего избирательного права, автономии Польши и других приграничных территорий, а также проведения экономических и социальных реформ с целью устранения неравенства, настаивая в том числе на экспроприации земель.
В это турбулентное время многие либеральные мыслители, основавшие «Союз освобождения», все больше склонялись к мысли, что революция, возможно, является лучшим средством для достижения их целей: создания правового государства, гарантирования прав человека и достижения свободы, которую они воспринимали как самоцель. Однако такое решение ставило перед ними глубокую моральную дилемму. Как писала М. Стокдейл, «на возникавшие этические и юридические вопросы, в частности о взаимосвязи между целями и средствами и границах допустимого в политике, не было простых ответов, особенно с учетом того, что эти вопросы не имели абстрактный характер, а ставились... в период колоссальных социальных и политических потрясений». Тот факт, что политика террора находила поддержку как среди их потенциального электората, так и со стороны партий, которых они считали своими ключевыми союзниками, в известной степени показывает, какого рода тактические решения приходилось принимать лидерам либерального движения.
Установившаяся традиция причислять террористов к героям-мученикам, сражающимся за свободу и благополучие российских граждан, стала еще более трудной проверкой на их верность своим этическим принципам; даже такие фигуры, как Струве и Маклаков, испытывавшие искреннее отвращение к насилию, в какие-то моменты 1905 года соглашались с необходимостью террора.
Свобода и порядок
Во время Революции 1905 года российские либералы постепенно осознали, что у способности государства поддерживать порядок внутри общества есть этическая сторона, неразрывно связанная с сохранением и защитой свободы. Однако по мере того, как им открывалась эта связь между порядком и свободой, между ними стали разгораться споры о том, как эти понятия должны соотноситься друг с другом. В частности, те, кто впоследствии вступил в кадетскую партию, в массе своей утверждали, что в исторических условиях, сложившихся в России, необходимо принять некоторые позитивные меры, направленные на улучшение качества жизни беднейших слоев населения; однако их взгляды на то, сможет ли царское правительство сохранять порядок в обществе, защищая при этом личные права граждан, существенно разнились. Милюков, чье мнение оказывало колоссальное влияние на политику партии, опираясь на свой опыт историка, утверждал, что в сложных ситуациях свобода должна восприниматься как цель, чью ценность надлежит сравнивать с ценностью других конкурирующих с ней идей. В цикле лекций, прочитанных им в 1903 году в Соединенных Штатах, он говорил о том, что «политическая и личная свобода больше не представляются теми абсолютными ценностями, которыми они считались на заре эры свободы во Франции». Во время кризиса он готов был в значительной степени пожертвовать негативной свободой ради создания более благоприятных условий для самореализации всех граждан. Маклаков, который по основному роду деятельности был адвокатом и впоследствии в эмиграции стал одним из самых непримиримых критиков Милюкова, также верил, что в России роль позитивной свободы должна быть выше, чем на Западе, однако, по его мнению, Россия нуждалась в сильной власти из-за того, что русский народ совершенно не имел опыта негативной свободы. В своих взглядах, которые он подробно изложил в воспоминаниях, Маклаков исходил из того, что личная свобода не может быть достигнута благодаря нарушениям прав государства, и эта точка зрения нашла отклик внутри определенной группы кадетов, о чем будет более подробно рассказано в четвертой главе. Когда «Союз освобождения» был распущен и началась настоящая борьба между политическими партиями с разными идеологическими платформами, те, кто разделял идею о добросовестной конкуренции между различными либеральными ценностями, вошли в состав кадетской партии, но при этом стало отчетливо ясно, что другие крупные группы бывших «освобожденцев» не разделяют этой позиции.
В октябре 1905 года, в процессе подготовки к участию в выборах в законосовещательную Думу (одна из уступок, на которую пошло царское правительство), «Союз освобождения» был распущен, а на его руинах была создана конституционно-демократическая партия. Как и у ее предшественника, программа партии была написана таким образом, чтобы привлечь в ряды ее сторонников как можно больше представителей нереволюционно настроенной интеллигенции, в том числе представителей национальных меньшинств из Польши и Финляндии. Требования кадетов включали в себя равенство всех российских граждан перед законом, гарантию соблюдения основных гражданских прав и свобод, включая свободу слова, совести, передвижения и собраний.
Главным политическим требованием кадетов было создание национального законодательного собрания с помощью системы всеобщих, равных, прямых и тайных выборов, ответственность за проведение которых лежала бы на правительстве. За женское избирательное право выступали чуть больше половины членов партии, которые не требовали от остальных кадетов поддержки в этом вопросе; противники предоставления женщинам права свободно голосовать утверждали, что это слишком радикальная мера, которая не найдет понимания у крестьянства. По этому поводу Милюкову, заявлявшему, что от требования действительно всеобщих выборов следует временно отказаться по тактическим соображениям, открыто возражала его жена — А. С. Милюкова (1861–1935), которая в мае 1905 года стала одной из соосновательниц Лиги равноправия женщин.
Самым болезненным вопросом, вызывавшим наиболее ожесточенные споры между членами кадетской партии, был крестьянский. В конце концов в программе кадетов было туманно сказано, что отчуждение частновладельческих земель будет производиться с вознаграждением «по справедливой (не рыночной) оценке» и в «потребных размерах».
В своей вступительной речи на учредительном съезде партии Милюков заявил о левоцентризме кадетов, сказав:
«...наша партия ближе всего подходит к тем интеллигентским западным группам, которые известны под названием „социальных реформаторов“ <...> наша программа является, несомненно, наиболее левой из всех, какие предъявляются аналогичными нам политическими группами Западной Европы».
В самом деле, позиция кадетской партии (особенно в том, что касалось аграрной реформы и трудового законодательства) впоследствии часто критиковалась как едва ли совместимая с идеями либерализма. В частности, их осуждали за включение пункта об отчуждении земель как противоречащего принципу неприкосновенности частной собственности. Однако в рамках того подхода к либерализму, который используется в этом исследовании, аграрная программа кадетов представляет собой пример конфликта между конкурирующими друг с другом целями: полномасштабным перераспределением благ и прав в пользу значительной части населения России и негативной свободой землевладельцев, порожденной и сохраняемой самодержавным режимом. Канонический пример такого по-настоящему либерального подхода к крестьянскому вопросу можно увидеть у члена кадетской партии П. И. Новгородцева, писавшего: «Правосознание нашего времени выше права собственности ставит право человеческой личности и во имя этого права, человеческого достоинства, свободы устраняет идею неотчуждаемой собственности, заменяя ее принципом публично-правового регулирования приобретенных прав с необходимым вознаграждением их обладателей в случае отчуждения». Тот факт, что кадеты постоянно выступали в защиту личных прав человека в других случаях и что, согласно либеральному консенсусу, право собственности не является «нерушимым», лишний раз доказывает, что кадетская партия пыталась в этих сложных исторических обстоятельствах достичь разумного компромисса между конкурирующими либеральными принципами.
Когда кадеты спорили о своей программе на фоне Всероссийской политической стачки и роста революционных настроений, царское правительство наконец пошло на первую существенную политическую уступку протестующим, выпустив 17 (30) октября 1905 года манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» (так называемый Октябрьский манифест), в котором были провозглашены различные права и свободы, а также было объявлено о создании полноценного законодательного органа — Думы. «Освобожденческое» движение, члены которого в разной степени верили в готовность правительства идти на реформы, раскололось на несколько политических партий. Крупные землевладельцы и предприниматели отделились от кадетов и сформировали «Союз 17 октября» — партию, идеология которой заключалась в том, что для распространения идей либерализма в России необходимо сотрудничать с царским правительством, и чьи члены в меньшей степени были озабочены поиском компромисса между концепциями позитивной и негативной свободы, чем кадеты. Хотя Шипов и другие основатели «Союза 17 октября» сумели в прошлом найти точки соприкосновения с будущими кадетами при создании «Союза освобождения», их партия (чем дальше, тем сильней) развивалась в сторону нетерпимости, великорусского шовинизма и консерватизма. В отличие от будущих октябристов, большинство кадетов отнеслись к положениям Октябрьского манифеста с недоверием. Последующие шаги царского режима, в том числе смертные казни и слабая политическая поддержка графа С. Ю. Витте (1849–1915), фактического автора Октябрьского манифеста, еще больше разубедили их в том, что правительство действительно собирается претворять в жизнь эти обещания.
В то время как вера либералов в благие намерения царского правительства слабела, революционеры действовали все более смело и широко, и возможность того, что старый порядок не выстоит против этих вооруженных выступлений, становилась все более осязаемой. Постоянные забастовки, захваты земель и призывы к насилию во имя социальных реформ в итоге вылились в организованное меньшевиками, большевиками и эсерами Декабрьское восстание в Москве 1905 года, которое было подавлено властями с использованием артиллерии. Социалистическое движение набирало обороты, но лидеры кадетов в целом воздерживались от критики революционных партий и (по крайней мере, на словах) по-прежнему возлагали ответственность за творящееся насилие на правительство, обвиняя его в бессмысленной жестокости и бездействии.
К концу 1905 года кадеты на собственном опыте убедились в том, что столь желаемые ими права и свободы не могут быть надежно защищены в период социальных волнений и экономических потрясений. В статьях отдельных членов кадетской партии видна их обеспокоенность перспективами сотрудничества с решительно настроенными революционными партиями, которые пренебрежительно относились к идее государства как гаранта соблюдения порядка и посредника при поиске компромисса между различными правами и свободами. В частности, Струве писал:
«Мировоззрению социал-демократии... чужда идея права. Реакционное насилие самодержавия социал-демократия желает побороть революционной силой народа. Культ силы общий с ее политическим врагом; она желает только другого носителя силы и предписывает ему другие задачи. Право в ее мировоззрении есть не идея должного, а приказ сильного».
Как будет показано в следующей главе, именно тогда он создал свое учение о несовместимости революционного насилия со свободой и с культурой. Хотя невозможно отрицать, что, преследуя свои долгосрочные цели, либеральное движение в течение длительного периода сотрудничало с революционными партиями, в тот момент лидеры кадетов пришли к мысли о том, что, если государство не способно поддерживать порядок и выполнять свои нормальные функции, самое существование прав и свобод человека находится под угрозой. Заново осознав важность государственных институтов, однако окончательно разуверившись в царском правительстве, кадеты начали готовиться к своему первому опыту парламентской деятельности.