Как Солженицын «убил» Шаламова
История одного письма в «Литгазету»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Яков Клоц. Тамиздат. Контрабандная русская литература в эпоху холодной войны. М.: Новое литературное обозрение, 2024. Перевод с английского Татьяны Пирусской. Содержание
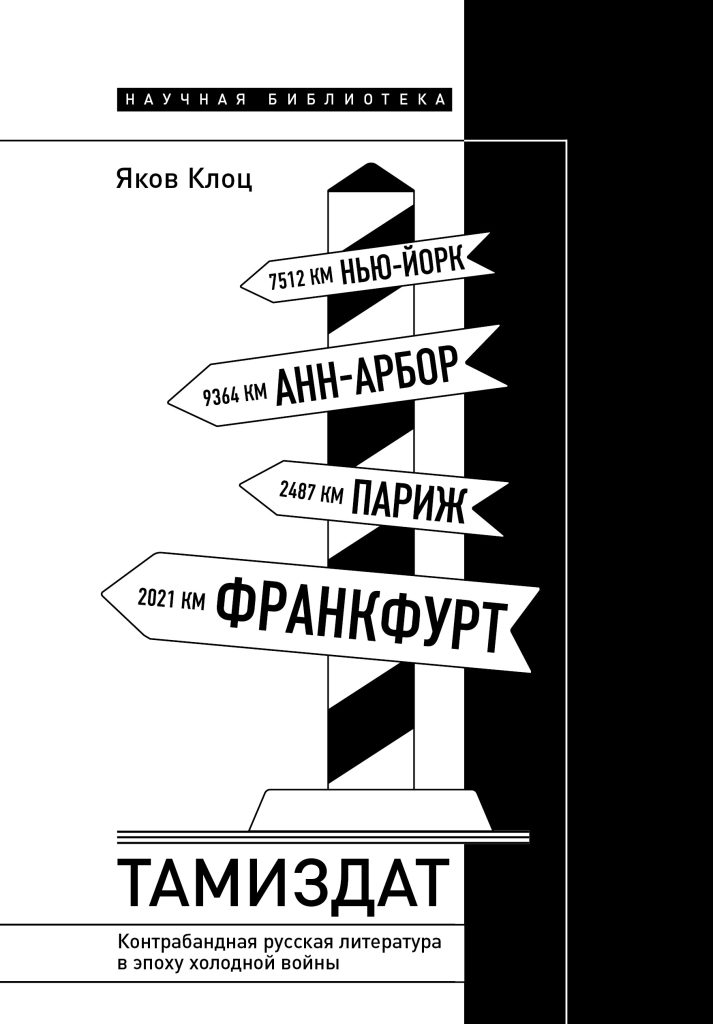 Публикация «Колымских рассказов» за рубежом неотделима от истории с «Доктором Живаго», вынужденного отказа Пастернака от Нобелевской премии и его «известных покаянных писем» в советские газеты, которых, по мнению Шаламова, Пастернаку «не надо было писать». Почти через десять лет после выхода «Доктора Живаго» в Италии Шаламов упомянул Пастернака в анонимном «Письме старому другу», написанном после суда над Синявским и Даниэлем, который «всколыхнул весь мир гораздо глубже, шире, больнее, ответственнее, чем во время пресловутого дела Пастернака». Согласно Шаламову, «тот элемент духовного террора, который был в истории с Пастернаком (чуть было не сказал: в процессе Пастернака), здесь перерос в террор физический». В 1966 году Шаламов, разумеется, еще не подозревал, что «и ему суждено испытать судьбу свергнутого живого Будды», как заметила позднее Сиротинская.
Публикация «Колымских рассказов» за рубежом неотделима от истории с «Доктором Живаго», вынужденного отказа Пастернака от Нобелевской премии и его «известных покаянных писем» в советские газеты, которых, по мнению Шаламова, Пастернаку «не надо было писать». Почти через десять лет после выхода «Доктора Живаго» в Италии Шаламов упомянул Пастернака в анонимном «Письме старому другу», написанном после суда над Синявским и Даниэлем, который «всколыхнул весь мир гораздо глубже, шире, больнее, ответственнее, чем во время пресловутого дела Пастернака». Согласно Шаламову, «тот элемент духовного террора, который был в истории с Пастернаком (чуть было не сказал: в процессе Пастернака), здесь перерос в террор физический». В 1966 году Шаламов, разумеется, еще не подозревал, что «и ему суждено испытать судьбу свергнутого живого Будды», как заметила позднее Сиротинская.
15 февраля 1972 года Шаламов написал свое злополучное письмо в редакцию «Литературной газеты», начинавшееся словами:
Мне стало известно, что издающийся в Западной Германии антисоветский журнальчик на русском языке «Посев», а также антисоветский эмигрантский «Новый журнал» в Нью-Йорке решили воспользоваться моим честным именем советского писателя и советского гражданина и публикуют в своих клеветнических изданиях мои «Колымские рассказы».
Шаламов утверждал, что «никогда не вступал в сотрудничество с <...> зарубежными изданиями, ведущими постыдную антисоветскую деятельность», никогда не давал им никаких рукописей и не собирается делать этого впредь. «Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных журнальчиков — по рассказу-два в номере, — имеет целью создать у читателя впечатление, что я — их постоянный сотрудник». Не упоминая неавторизованные переводы «Колымских рассказов» на иностранные языки, на тот момент уже вышедшие отдельными сборниками в Германии, Южной Африке и Франции, Шаламов резко высказался в адрес издаваемого во Франкфурте эмигрантского журнала «Посев», который напечатал в 1967 году всего два его рассказа, но, в отличие от «Нового журнала», был известен своей связью с Народно-трудовым союзом российских солидаристов — эмигрантским объединением, обладавшим в глазах советской власти в высшей степени одиозной репутацией. «Ни один уважающий себя советский писатель не уронит своего достоинства, не запятнает чести публикацией в этом зловонном антисоветском листке своих произведений». Протестуя против того, чтобы его изображали антисоветским писателем и внутренним эмигрантом, Шаламов завершил письмо фразой, которая дорого обошлась ему как в России, так и за рубежом: «Проблематика „Колымских рассказов“ давно снята жизнью...»
Письмо появилось в «Литературной газете» вскоре после того, как Георгий Марков, первый секретарь Союза советских писателей, сделал Шаламову недвусмысленное предложение: его четвертый стихотворный сборник «Московские облака» выйдет в России без проволочек, если автор публично отречется от нелегальных публикаций своих рассказов в тамиздате. Шаламов, раздосадованный тем, как обращались с его текстами за границей, и к тому времени разочаровавшийся в диссидентском движении на родине, хотел, чтобы его читали в России, пусть даже лишь как поэта. Гладков, видевшийся с Шаламовым через пять дней после публикации письма, заметил: «...У него заблокировали книгу стихов в „Сов[етском] пис[ателе]“ и цикл стихов в „Лит[ературной] газете“», — однако Шаламов «ни о чем не жалеет и настроен задорно... хочет вступать в Союз». Гладков объяснял это «полной оторванностью [Шаламова] от литер[атурной] среды... полной изоляцией, усугублявшейся его глухотой и болезнями, бедностью и пр.».
Вопреки высказывавшимся ранее предположениям, что это письмо — подделка или что Шаламова вынудили его подписать, нет оснований сомневаться в его подлинности. В записи, сделанной в том же месяце, но для себя, а не для огласки, Шаламов объяснил:
Смешно думать, что от меня можно добиться какой-то подписи. <...> Заявление мое, его язык, стиль принадлежат мне самому. <...> Если бы речь шла о газете «Таймс», я бы нашел особый язык, а для «Посева» не существует другого языка, как брань. <...> Всё — в границах языка.
Как убедительно показала Токер, именно язык шаламовского письма не позволяет трактовать его лишь как капитуляцию перед властью. В частности, эпитет «зловонные», неоднократно повторенный Шаламовым применительно к эмигрантским журналам, должен был вызвать в памяти у посвященных читателей типичную инвектику 1920-х годов, периода бурных политических дебатов между правящей фракцией и левой оппозицией, к которой Шаламов принадлежал и которую помнил не понаслышке.
Читателям Шаламова, — поясняет Токер, — слово должно было резать глаз как чужеродное <...> чтобы отвлечь внимание от истинного предназначения письма — протащить в официальную советскую печать первое и последнее упоминание о «Колымских рассказах» — вместе с их точным названием. Таким образом подлинной целевой аудитории письма сообщается о том, что такой сборник существует: читателей побуждают к мыслям о том, где его достать. Прекрасно понимая, что скрывается за топонимом «Колыма», прочитавшие письмо зададутся вопросом: «„Колымские рассказы?“ Где же?»
Ссылаясь на рассказ Шаламова «Кусок мяса», герой которого симулирует острый аппендицит и жертвует собственной плотью, чтобы его не отправили в один из самых страшных лагерей, где выжить почти невозможно, Токер сравнивает эпитет «зловонные» с «„куском мяса“, брошенным тем, кто стоит на пути этого письма (редакторам газет, цензорам), чтобы отвлечь их внимание от его реальной задачи». Такая стратегия была распространена среди советских диссидентов и интеллигентов, «желающих познакомить общественность с какой-нибудь „неприемлемой“ теорией», — для этого надо было «разгромить враждебную доктрину, при этом подробно обрисовав ее суть». Само собой, письмо Шаламова в «Литературную газету» обусловлено и тем, что, как только его произведения начали распространяться в самиздате и попали за рубеж, он утратил контроль над их судьбой. Это, как полагает Токер, ощущалось Шаламовым особенно остро и не могло не ассоциироваться с «невозможностью заключенных распоряжаться собственной судьбой». Но в 1972 году публичное «покаяние» Шаламова не могло не шокировать читателей как в России, так и за рубежом. Подтекст письма был заслонен буквальными значениями слов, и ни та ни другая аудитория не разглядела в нем стилистически закодированного сообщения. Особенное негодование вызвала последняя фраза, в которой усматривали не только отречение Шаламова от собственных текстов, но и предательство по отношению к миллионам жертв Колымы.
Через месяц после публикации письма в «Литературной газете» эмигрантская газета в Париже поместила анонимную заметку, написанную недавно уехавшим из СССР автором и озаглавленную «Упразднение Колымы?». Редактором газеты в те годы была княжна Зинаида Шаховская, поэтесса и мемуаристка, представительница первой волны эмиграции, написавшая в предисловии:
Два предложения невольно приходят на ум: или Шаламов действительно «ссучился» или он всегда был «их» — «стукачем». Можно предположить и третье — его заставили написать. Но и эта версия не к чести автора «Колымских рассказов»...
Анонимный автор статьи был знаком с текстами Шаламова по самиздату до эмиграции. Он упомянул диссидента Андрея Амальрика, все еще отбывавшего срок на Колыме, несмотря на утверждение Шаламова, что «проблематика „Колымских рассказов“ давно снята жизнью», и задался вопросом, что значит «ссучиться», обращаясь к Шаламову напрямую: «Варлам Тихонович, с каждого разный спрос. Как старому лагернику можно и Вам сказать: „Вы ссучились!“» На советском уголовном жаргоне «ссучиться» означает отступить от «кодекса чести» (профессиональных воров) и вступить в сделку с лагерным или тюремным начальством и властью в целом. Но если у Шаламова, как показала Токер, эпитет «зловонные» — скрытая отсылка к политической риторике 1920-х годов, то Шаховская, эмигрировавшая в 1920-м, и анонимный автор, знакомый с советским тюремным жаргоном не понаслышке, прямо употребили глагол «ссучиться» против Шаламова, отнеся эпитет «зловонные» к «замшелому лексикону ждановщины».
В мартовском номере «Нового журнала» за 1972 год рассказы Шаламова были напечатаны как обычно, но, помимо стандартного предуведомления о том, что рассказ «Заговор юристов» публикуется «без ведома и согласия автора», текст сопровождали размышления Гуля о «покаянном» письме Шаламова в «Литературную газету». В отличие от Шаховской, Гуль отказывался верить, что письмо написано Шаламовым. Оно, по мнению Гуля, было написано «кагебистским языком и стилем „Лит. газеты“, а не языком и стилем В. Шаламова»:
«Литературной Газете» же мы даем совет, вместо того, чтобы сочинять и печатать «протесты» — печатать лучше «Колымские рассказы» В. Шаламова и другие самиздатовские произведения. Тогда, естественно мы печатать (т. е. перепечатывать) их не будем.
Веря в моральные принципы Шаламова, Гуль тоже воспринял письмо буквально. Ни Гуль, ни Шаховская, уехавшие из России после революции, не могли уловить языковых и политических нюансов этого письма, хотя оно на некоторое время и охладило их отношения. В ответ на выпад Шаховской против Шаламова Гуль написал в другой эмигрантской газете, что двадцать лет на Колыме не то же самое, что двадцать лет в Пасси, в Париже, и что публикация анонимной заметки с руганью в адрес Шаламова не делает чести Шаховской как редактору и не свидетельствует о понимании эмигрантами тяжелого положения писателей в России. Вслед за Гулем в защиту Шаламова в частном письме выступил и Глеб Струве:
Советские покаяния, конечно, вещь очень печальная, но принимать их всегда на веру и придавать им слишком большое значение не следует. <...> Замалчивать «покаянные» письма и статьи не следует, но и торопиться делать выводы из них тоже не следует.
Советские нападки на тамиздат и на него самого в частности не были неожиданностью для Струве по меньшей мере с конца 1950-х годов, но в 1972 году письмо Шаламова в «Литературную газету» было прочитано им в контексте статьи советского критика Александра Дымшица, напечатанной в «Литературной России» всего двумя неделями ранее, где Струве среди прочих эмигрантов был назван «антисоветским клеветником»:
Пусть антисоветские клеветники уберут свои грязные руки от творчества писателей, чьи пути были нелегкими, но чьи лучшие создания по праву наследования принадлежат нам, а не господам Глебу и Никите Струве, Борису Филиппову, Иваску и прочим деятелям «советологической» антинауки.
Хотя «Колымские рассказы» не упомянуты в статье Дымшица, она характеризует ту политическую атмосферу, в которой писалось и читалось письмо Шаламова как в России, так и за рубежом. В том же году еще четыре советских автора — Булат Окуджава, Анатолий Гладилин и братья Стругацкие — опубликовали похожие заявления в «Литературной газете», протестуя против публикаций, авторизованных или нет, своих произведений на Западе.
Такое же негодование письмо Шаламова, в особенности его последняя фраза, вызвало в диссидентских кругах в России. Петр Якир, сын известного военачальника, расстрелянного в 1937 году, сам бывший политзаключенный и автор воспоминаний «Детство в тюрьме», которые в том же 1972-м вышли за границей, обратился к Шаламову с письмом, озаглавленным «Честному советскому писателю Варламу Шаламову» и датированным 29 февраля 1972 года. Якир справедливо заметил, что письмо Шаламова в «Литературную газету» — его «единственное <...> прозаическое произведение, опубликованное в нашей стране». Хотя «Колымские рассказы» и не напечатаны, писал Якир, они знакомы «десяткам тысяч» читателей самиздата в России:
Мы... всегда будем высоко ценить совершенное Вами, относиться к Вам с глубочайшим уважением и благодарностью. Неправедное, жалкое и бездарное письмо, опубликованное за Вашей подписью в «Литературной газете», ничего не изменит в нашем отношении к Вам. <...> Да неужели Вы могли подумать, что мы, Ваши читатели, поверим, будто Вы — замечательный художник позволите себе на трех маленьких столбцах письма трижды назвать себя «честным советским писателем и гражданином», шесть раз употребить термин «антисоветский», по нескольку раз термины «грязные», «клеветнические», «зловонные», «подлые» по отношению к зарубежным журналам публикующие Ваши «Колымские рассказы» [sic!]...
Однако Якир сокрушался, что к благодарности и уважению читателей с этих пор будет примешиваться жалость к Шаламову: «Как жалко, что человека, создавшего „Колымские рассказы“ <...> сломило время, а вернее, безвременье». Единственный «упрек» Якира Шаламову относился к последней фразе его письма в «Литературную газету»:
Зачем подписали Вы такое утверждение: «Проблематика „Колымских рассказов“ давно снята жизнью...». Вы в этом действительно уверены, глубокоуважаемый Варлам Тихонович? <...> Подумайте! Разве можно так, одним росчерком пера разделаться, списать в расход, считать несуществующими тех, кто томится сейчас там, где некогда томились Вы и многие другие? Среди нынешних мучеников наверняка есть немало читателей Ваших «Колымских рассказов», которых эти рассказы вдохновили на благородную и самоотверженную борьбу со злом.
В том же году в сноске к «Архипелагу ГУЛАГ» Солженицын заявил, что Шаламов «умер»: «Отречение было напечатано в траурной рамке, и так мы поняли все, что — умер Шаламов». Текст сноски был написан в 1972 году, за два года до высылки Солженицына из России, и какое бы неодобрение ни вызвал у него поступок Шаламова, трудно поверить, что писатель, так хорошо знакомый с советской цензурой, издательской практикой и литературной политикой, как Солженицын, мог всерьез принять особенности полиграфии за известие о смерти собрата по перу (и по ГУЛАГу). Скорее дело было в литературном соперничестве между Солженицыным и Шаламовым. В 1974 году, когда вышел второй том «Архипелага ГУЛАГ» с упомянутым примечанием, а Солженицын оказался в изгнании, Шаламов написал:
...Я охотно принимаю Вашу похоронную шутку насчет моей смерти. С важным чувством и с гордостью считаю себя первой жертвой холодной войны, павшей от Вашей руки. Я действительно умер для Вас и Ваших друзей, но не тогда, когда «Литгазета» опубликовала мое письмо, а гораздо раньше — в сентябре 1966 г.
В своем неотправленном письме Шаламов напоминал Солженицыну о том, что разделило их задолго до этого скандала. Их отношения и попытки сотрудничать в работе над лагерной темой были обречены не только потому, что Шаламов надеялся «сказать свое слово в русской прозе», но прежде всего потому, что он не принимал художественного метода Солженицына.