Как преступник становится политиком
Отрывок из книги «Демократия и политические события»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Никита Савин. Демократия и политические события. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2023. Содержание
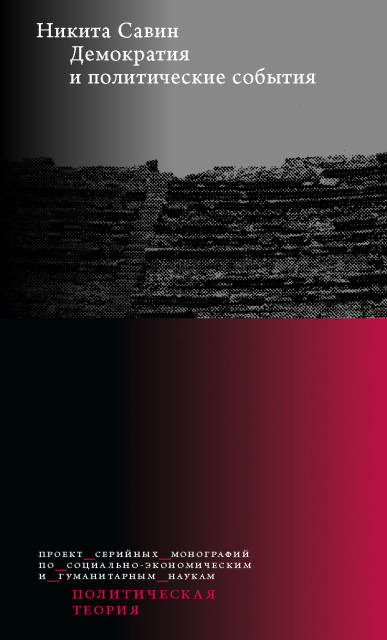 Политическое событие предполагает в качестве необходимого условия отрицание политического порядка. Идея отрицания является объединяющим сюжетом как для дискуссий о событии, так и для дискуссий о понятии политического. На отрицающий характер события указывает, в частности, Уильям Сьюел, говоря о том, что исторические события начинаются с разрыва с какой-либо рутинной социальной практикой, влекущего за собой цепную реакцию и трансформацию социальных структур. Жан-Люк Нанси и Филипп Лаку-Лабарт лаконично отмечают, что «вопрос о разъединении имеет большее отношение к политическому, чем само политическое». Ключевым для политического события является не просто отрицание какой-либо социальной практики, но отрицание политического порядка, который эту практику легитимирует.
Политическое событие предполагает в качестве необходимого условия отрицание политического порядка. Идея отрицания является объединяющим сюжетом как для дискуссий о событии, так и для дискуссий о понятии политического. На отрицающий характер события указывает, в частности, Уильям Сьюел, говоря о том, что исторические события начинаются с разрыва с какой-либо рутинной социальной практикой, влекущего за собой цепную реакцию и трансформацию социальных структур. Жан-Люк Нанси и Филипп Лаку-Лабарт лаконично отмечают, что «вопрос о разъединении имеет большее отношение к политическому, чем само политическое». Ключевым для политического события является не просто отрицание какой-либо социальной практики, но отрицание политического порядка, который эту практику легитимирует.
По Веберу, порядок имеет место там, где социальное действие ориентировано на определенные максимы. При этом свою значимость порядок обретает там, где эта ориентация рассматривается участниками социального действия в качестве достойной быть реализуемой на практике. Вебер подчеркивает множественность и даже конфликтность различных социальных порядков. Например, участник запрещенной дуэли одновременно ориентируется как на кодекс чести, так и на нормы уголовного права. Нарушение норм уголовного права заставляет дуэлянтов скрывать свои действия от посторонних глаз, а значит право как социальный порядок оказывается для них чем-то важным. Тем не менее конфликтность порядков предполагает определенность в части их легальности и легитимности. Эта определенность, в логике самого Вебера, обеспечивается порядками управления и регулирования, которые завязаны на политическом господстве.
Понятия политического порядка в социологии Вебера нет, как нет у него и понятия политического. Как уже было отмечено выше, эпистемологическая позиция Макса Вебера не позволяет ему ввести в свой вокабуляр понятие политического. Все понятия, которыми оперирует Макс Вебер, подчеркнуто формальны и четко определены. Неслучайно именно идеи Вебера становятся отправной точкой для построения системных теорий общества. Понятие политического, как уже было отмечено выше, не поддается четкому дефинированию и формализации. Тем не менее понятие политического порядка неявно присутствует у Вебера в описании того, как отношения господства осуществляют демаркацию легальных и нелегальных, легитимных и нелегитимных социальных порядков. Для Вебера такая демаркация выражена в понятии правопорядка, поскольку именно он внешне гарантирован отношениями господства и возможностью применить насилие.
Отрицание любого порядка создает угрозу санкции для того, кто бросил ему вызов. Вебер справедливо отмечает, что с точки зрения социологии понятие порядка отсылает к вероятности ориентации на него участников социального действия. В понятии порядка всегда заложено возможное противостояние ему. В какой-то мере нарушение порядка может даже подтверждать его значимость и легитимность. Вебер приводит в пример вора, который вынужден скрываться при нарушении норм уголовного права, обнаруживая тем самым легитимность этих норм. Мотивы, по которым вор прячется, не имеют значения. Он может прятаться от стыда за свой поступок или же опасаясь установленного законом наказания. В последнем случае за угрозой применения наказания просматривается политический порядок, поскольку наказание реализуется официально авторизованной инстанцией, которая призвана следить за сохранением правопорядка.
Наказание является лучшим индикатором, по которому можно судить о состоянии и характеристиках политического порядка. Это своего рода лакмусовая бумажка. Если вор регулярно не наказывается за совершение преступления, политический порядок оказывается скомпрометированным. При этом политические взгляды самого преступника не играют здесь никакой роли. Имеет значение лишь его возможность нарушать установленный правопорядок и избегать наказания. Впоследствии Мишель Фуко увидит в этом глубокий политический смысл: в акте наказания практически реализуется установленная в судебном заседании истина о том, что некто является преступником. Вне практик наказания нет преступника, а значит — нет и демаркации легального и нелегального. Но Макс Вебер этого шага не делает. Для него наказание за несоблюдение правовых норм не является монополией политического союза или, во всяком случае, не предполагает такой монополии в обязательном виде. Государство может усилить наказание применением насилия, но не обладает исключительной возможностью гарантировать собственным вмешательством любое право. Более того, Вебер указывает на конкуренцию порядков различных сословных союзов и государства, в которой победа последнего вовсе не предопределена. То, что современное государство замыкает правопорядок на себе, является для Вебера одной из его особенных черт, но не особенностью правопорядка как такового. Теоретически право может быть обеспечено любым организованным аппаратом принуждения, необязательно политическим. Тем не менее способность государства подкрепить свои порядки наказанием оказывается маркером его социологической состоятельности.
Карл Шмитт, которого Хабермас называл легитимным учеником Макса Вебера, пошел существенно дальше своего учителя в обосновании автономии политического порядка от правопорядка. Для Шмитта гарантия правопорядка со стороны политического порядка обеспечена не просто возможностью применения насилия, но реальной способностью установления и обеспечения правопорядка. Такой способностью обладает суверен, который преодолевает вероятный характер порядка посредством решения о чрезвычайном положении — режиме, в котором приостанавливается нормальное функционирование права. Децизионистская трактовка права и политики позволяет Шмитту развести легальность и легитимность, которые у Вебера накладываются друг на друга. Констатированное Максом Вебером распространение веры в легальность как основного типа легитимности для Шмитта является отличительной чертой парламентского правления. Подлинным смыслом парламентаризма для него является упразднение отношений господства и, как следствие, замыкание легитимности на легальности, которые на самом деле противоположны друг другу. Вследствие такого замыкания парламентское правление сводится к формализму и оказывается нежизнеспособным. Выходом из этой ситуации для Шмитта является признание конституирующей для права роли политического решения и политического порядка как внешнего гаранта правопорядка.
Отрицание у Шмитта является ключевой составляющей политического как отношений, обусловленных крайней возможностью бытийственного отрицания чужого бытия. Сам смысл различения друга и врага, пишет Шмитт, «состоит в обозначении высшей степени интенсивности соединения или разъединения, ассоциации или диссоциации». В своих рассуждениях Шмитт подчеркивает, что речь идет именно об инаковости и чуждости, которая не окрашена никакими дополнительными качествами. Политический враг не является экономическим конкурентом или моральным злом. Его инаковость делает возможным конфликт, который не может быть разрешен никакими общими принципами и нормами.
При этом любые отрицания политического порядка изнутри Шмитт объявляет вторичными по отношению к различению друга и врага. Поскольку политическое не имеет собственной предметной области, но являет себя там, где степень интенсивности противостояния достигает предельного уровня, все второстепенные политические различения потенциально представляют угрозу государству как высшей форме политического единства. Эти рассуждения Шмитта внутренне противоречивы и опираются на разоблаченную дилемму социального плюрализма и политического единства. Причина тому — стремление Шмитта обосновать собственную политическую позицию даже в ущерб теоретической стройности. Если политический враг всегда конкретен, а политические понятия носят полемический характер, то и понятие политического является в первую очередь отражением политической позиции автора.
Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф в своей идее антагонизма исправят противоречие, заложенное Шмиттом. Как уже было отмечено выше, антагонизм у Лакло и Муфф означает предел социальной объективности и отсылает как раз к ее отрицанию в виде оспаривания. В силу выхода за рамки социальной объективности антагонизм плохо поддается описанию и не может быть сведен ни к реальной оппозиции, ни к логическому противоречию в кантовском значении этих понятий. Он выражает себя в опыте отчуждения, когда люди полностью или частично выпадают из логики субъективации в рамках действующей системы социальных различий. В противовес социальной позитивности этот опыт представляет собой чистую негативность и, в свою очередь, может быть выражен посредством оспаривания политического порядка.
В дискурсивной этике и политическом либерализме отрицание плотно сопряжено с моралью, понимаемой в посткантианском ключе. Ролз и Хабермас на разный лад преодолевают метафизические мотивы в кантианской философии, подменяя категорический императив моделями исходного положения и идеальной речевой ситуации. У Ролза правопорядок подкрепляется политической концепцией справедливости и публичным разумом, который оказывается универсальным инструментом разрешения политических противоречий. У Хабермаса право обретает нормативную значимость посредством непрерывного валидирования в ходе делиберативных практик граждан. В результате сама ситуация политического кризиса оказывается немыслимой, поскольку граждане потенциально могут обо всем договориться.
В треугольнике «право — мораль — политика» главной вершиной и у Ролза, и у Хабермаса является мораль. У Ролза отрицание присутствует в виде сомнения в том, что политическое решение согласуется с принципами справедливости, у Хабермаса — в виде возможности выразить аргументированное несогласие с принятым решением. В обоих случаях отрицание возможно лишь в виде несогласия или сомнения по конкретному вопросу. Отрицание политического порядка в целом оказывается невозможным, поскольку он основан на разумных и морально-обоснованных принципах, с которыми нельзя разумно не соглашаться. Такое отрицание неизбежно становится тавтологией, поскольку опирается на моральный принцип универсализации и бросает вызов основанному на морали порядку.
Преодоление тавтологичного характера морального отрицания оказывается частично возможным у Хабермаса за счет проводимого им разделения между моральным принципом универсализации и конкретными этическими кодексами. Тем не менее, признавая контингентность разных этических кодексов и их несводимость к морали, он при этом выводит этику дискурса из морального принципа универсализации. В результате в этике дискурса снимается напряжение между моралью как формой мысли и ее этическим наполнением, а вместе с этим снятием становится невозможным какое-либо морально обоснованное отрицание политического порядка.
На практике любое отрицание первоначально ощущается людьми на интуитивном уровне. Ключевой вопрос здесь — могут ли эти интуиции быть сведены к какому бы то ни было принципу или модели? С одной стороны, ответ на этот вопрос имеет принципиальный характер — последователи Ролза и Хабермаса дают на него утвердительный ответ, представители агонистической демократии — отрицательный. С другой же стороны, эти альтернативы образуют «прокрустово ложе» современной демократической теории. Утвердительный ответ ведет к морализаторству в осмыслении политических вопросов и нечувствительности политической теории к действительным политическим противоречиям. Отрицательный ответ релятивирует демократическую теорию и размывает отличия между разными вариантами разрешения предсобытийных ситуаций.
И интуиции, и моральные принципы обретают свою политическую релевантность тогда, когда они оказываются побудительными мотивами к действию. Но сведение таких мотивов к моральному чувству долга неоправданно ограничивает набор побудительных мотивов к участию в политике. В практической плоскости сам вопрос о связи побудительных мотивов с моралью в значительной мере лишен смысла. Если происходит деятельное отрицание сложившегося политического порядка, то не имеет значения, на чем оно основано — на морально обоснованном сомнении, на рациональном расчете, на инстинкте, на чувстве солидарности и так далее. В отрицании обнаруживают себя деятельные основания всякой конкретной нравственности, возникшей вследствие разделения действующего лица и противостоящей ему негативной действительности. В гегелевской философии права такое разделение рождает преступление. Но в той мере, в какой восставший против закона сам становится законом, он перестает быть преступником и становится политиком.
В каком-то смысле этот тезис является перевертышем веберовской формулы легитимного господства, для которого неважны мотивы подвластного в следовании приказам. Такая чистая негативность отражает лишь отказ от следования установлениям политического порядка. Иными словами, негативность обнаруживается там, где веберовский вор перестает прятаться и скрывать свои поступки, не признавая значимости законов уголовного права. Об этом отрицании на языке политики можно говорить лишь в негативных тонах — недовольство, нелегитимность, беспорядки и тому подобное, поскольку любая знаковая артикуляция такого отрицания затушевывает его предсобытийный характер.