Как Николай I после революций 1848 года душил русскую журналистику
Отрывок из новой книги Светланы Волошиной
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Светлана Волошина. Власть и журналистика. Николай I, Андрей Краевский и другие. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2022. Содержание
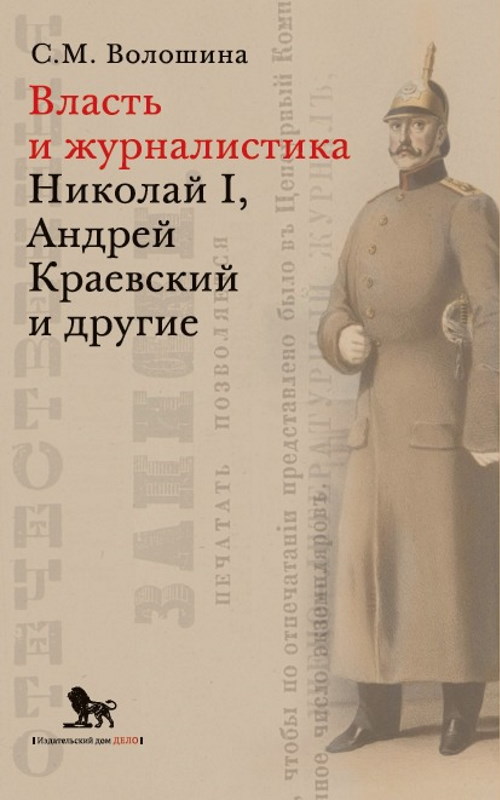 Высматривая крамольные темы в периодике и анализируя ее общий «дух», власть не забывала коммуницировать лично с редакторами «повременных изданий».
Высматривая крамольные темы в периодике и анализируя ее общий «дух», власть не забывала коммуницировать лично с редакторами «повременных изданий».
После «группового» предостережения и устрашения, сделанного редакторам Меншиковским комитетом, суровое внушение получили редакторы двух самых опасных журналов — А. В. Никитенко и А. А. Краевский — от императора в передаче А. Ф. Орлова.
На этот раз А. Ф. Орлов все же решил продемонстрировать собственную власть, безотносительно Комитета и, судя по всему, помимо передачи прямой угрозы от царя, добавил нечто и от себя как главы тайной полиции.
В начале апреля 1848 г. Корф записывал (убедившись в своей придворной прозорливости: ранее глава III отделения отказался от общения с редакторами из-за своего властного тщеславия):
Орлов мне сказывал, что призывал к себе вчера, по воле Государя, Краевского и Никитенко, и наговорил им столько, что оба тряслись как лист, а в заключение дал им подписать бумагу, в которой они не только обязываются не печатать впредь в своих журналах ничего в прежнем превратном духе, но и объявляют, что в случае нарушения сего подвергаются ответственности как государственные преступники!
Угроза императора в передаче Орлова стоила всех предыдущих вместе: цензурные нарушения в журналах приравнивались к личной уголовной ответственности каждого из редакторов:
Государь Император, рассмотрев всеподданнейший доклад, представленный Комитетом, высочайше учрежденным... и прочитав выписки, помещенные в упомянутом докладе из «Отечественных записок» и «Современника», изволил признать, что журналы сии допускали в статьях своих мысли, в высшей степени преступные, могущие поселить и в нашем Отечестве правила коммунизма, неуважение к вековым и священным учреждениям, к заслугам людей, всеми почитаемых, к семейным обязанностям и даже к религии, повредить народной нравственности и вообще приготовить у нас те пагубные события, которыми ныне потрясены западные государства.
Хотя, по всей справедливости, следовало бы издателей «Отечественных записок» и «Современника» Краевского и Никитенку подвергнуть личной наистрожайшей ответственности, но его Императорское Величество в милосердии своем на сей раз соизволил ограничиться повелением: внушить издателям упомянутых журналов Краевскому и Никитенке, чтобы они на будущее время не осмеливались ни под каким видом помещать в своих журналах статей и мыслей, подобных вышеизъясненным, чтобы, напротив того, всеми мерами старались давать журналам своим направление, совершенно согласное с видами нашего правительства, и что за нарушение этого, при первом после сего случае, им воспрещено будет издавать журналы, а сами они подвергнутся наистрожайшему взысканию, и поступлено с ними будет, как с государственными преступниками. На сей же бумаге Государь Император высочайше повелеть соизволил, чтобы гг. Краевский и Никитенко подписали, что бумага сия была им читана.
Однако и это было не все: министр народного просвещения тоже не упустил возможности продемонстрировать власть.
Заметить надобно, — отмечал автор дневника, — оба эти господа (Краевский и Никитенко. — С. В.) трижды были пропущены сквозь огонь и воду, т. е. призваны были к увещанию сперва в наш Меншиковской комитет, потом — по заключительному его журналу, безусловно утвержденному Государем, — к Уварову и, наконец, теперь к Орлову. Кажется, что после этого надолго можно быть спокойну на их счет.
«Спокойну», впрочем, можно было оставаться Корфу как функционеру нового Комитета по надзору над цензурой, но никак не редакторам.
Это очередное внушение — от Уварова — Краевский получил через попечителя С. -Петербургского учебного округа М. Н. Мусина-Пушкина. Внушение было ультимативным: если редактор «не изменит в основаниях направления издаваемого им журнала собственным наблюдением и выбором надежных сотрудников», то журнал запретят, а он подвергнется «строгому взысканию». Таким образом, «даруемый ему на некоторое время последний срок он должен считать действием снисходительности, в оправдание коей он обязан решительно принять прямые меры, дабы не подвергнуться сугубой ответственности». (Подобного послания от Уварова к Никитенко не обнаружено.)
Мусин-Пушкин в официальном сообщении и апреля 1848 г. отчитывался перед министром, что 9 апреля:
...в присутствии цензоров «Отечественных записок», гг. Фрейганга и Срезневского, объявил ему (Краевскому. — С. В.) содержание предписания Вашего Сиятельства и старался внушить ему, что он обязан оправдать делаемую ему снисходительность. Г. Краевский принял, с должным уважением и полною признательностию, сообщенные ему мною замечания и объяснил в подписке, что предписание Вашего Сиятельства он принимает к надлежащему и точному исполнению.
Заодно суровое внушение было сделано и цензорам: «...я счел нужным объявить гг. цензорам „Отечественных записок“, что они обязаны представлять мне немедленно каждую статью, которая, по мнению их, имеет сомнительное направление».
Получив такие угрозы от нескольких властных агентов, Никитенко (как официальный редактор «Современника», неожиданно для себя оказавшийся — если позволить себе анахроническую метафору — зиц-председателем Фунтом) и Краевский поняли, что должны совершить некий демонстративный акт, перформанс, предельно ясно показывающий власти их преданность и благонадежность.
Никитенко как редактору нанятому и во многом номинальному этот ритуал было исполнить проще: он написал официальный ответ со всеми причитающимися формулами присяги на верность и сложил с себя полномочия редактора.
Надо отметить, что еще до мрачной угрозы из уст Орлова Никитенко сделал отчаянную попытку не столько личного спасения, сколько облегчения участи современной периодики.
Зная членов негласного Комитета поименно, он передал через Я. И. Ростовцева («который в приязни со всеми нашими литераторами») письмо Корфу — вероятно, считая того рациональнее и разумнее его коллег. В письме он просил дать возможность лично заверить Корфа в самых чистых намерениях как своих, так и большинства остальных редакторов.
Может быть, — отчаянно пытался оправдать современную журналистику честный Никитенко, — было бы весьма нелишним, если б кто-нибудь из членов Комитета, например, хотя бы Его Высокопревосходительство М. А. Корф выслушал чистое и беспристрастное изъяснение хода дел нашей литературы из уст человека, понимающего это дело и не зараженного никакою ересью теорий? Этим человеком мог бы быть я.
Корф, однако, вернул письмо Ростовцеву, пояснив, что ему «невозможно ни иметь каких-либо объяснений, ни даже видеться с Никитенко».
В марте, когда происходил этот (заочный) диалог, Корф был полон эсхатологических настроений по поводу будущего Европы и России (а следовательно, и осознания важности своей миссии по очистке современной журналистики от плевел революции) и неутомимо передавал настроения высшей бюрократии:
И так по всей Европе, кроме Турции, мы еще одни, решительно одни спокойны, но спокойны в той только степени, в какой это возможно с нашими Западными губерниями, с нашим Царством Польским, с нашим крепостным состоянием, с лютыми врагами по всей Европейской границе, под жалом всемирной пропаганды и парижских, познаньских, галицийских эмиссаров! Боже, храни Царя и Россию! — Записывать ли после этого, что я обедал сегодня у В. Князя Михаила Павловича?.. Все личное — повторяю — кажется теперь столь мелким и ничтожным...
Опасность была слишком очевидна, и А. В. Никитенко, родившийся крепостным и благодаря собственным талантам и трудолюбию сделавший невероятную для представителя своего сословия карьеру — вопреки намеренно «заблокированным» социальным лифтам, — предпринял отчаянную попытку спасения. Он написал нечто вроде исповеди начальнику III отделения и присягал в исключительной верности трем китам каждого «русского и верноподданного».
Собственно информативной составляющей в его письме немного: Никитенко обращается через посредство А. Ф. Орлова к царю «Его» — то есть божьему помазаннику, перед которым ложь для верующего человека в принципе невозможна. Все обширное обращение написано высоким стилем; вероятно, Никитенко считал его единственно подходящим для общения с высшей властью.
Резкий отказ этой высшей власти от модерных достижений в виде следования законам и регламентированной коммуникации с подданными с помощью налаженного делопроизводства и бюрократического аппарата актуализировали домодерные механизмы общения и их маркер — язык.
Пораженный скорбию в ту злополучную минуту, когда Вы изволили объявить мне гнев Государя, я только мог сознавать великость моего несчастия, а не явиться перед Вами, сиятельнейший граф, в настоящем моем характере, чтобы В<аше> С<иятельство> могли в великодушном сердце Вашем смягчить Ваш суд обо мне. В груди моей бьется сердце, преданное великому Государю и великому Отечеству нашему...
По закону нашей Святой Церкви настоящие дни суть дни торжественного обнаружения чувствований перед Богом; прежде чем понесу перед алтарь его тайны моих помышлений, позвольте мне выразить часть их перед Вами, представителем Его Помазанника, чтобы скорбное сердце мое вполне внушило отраду святого примирения... Принимая на себя в прошедшем году редакцию одного из наших периодических изданий, я имел в виду одну цель — нравственным и литературным моим влиянием образовать со временем для публики чтение, сообразное столько же с существующим у нас порядком вещей, святость и непреложность коего я, как русский, умею глубоко чувствовать, сколько и с началами здорового вкуса. Я полагал притом, что, совершенствуясь в своем литературном достоинстве, это издание будет впоследствии успешно противодействовать пристрастию нашей публики к чтению всего иноземного, особенно французского. К несчастию, состав журнала слишком сложен и участвующих в нем слишком много...
В конце обращения Никитенко добавил несколько риторических формул в стиле то ли оды, то ли молитвы:
В великих судьбах Отечества нашего, в крепости расцветающих сил, в чистой, могучей любви к Монарху, наследованной нами от отцов наших, мы отогреем иные страсти — страсти, в коих потомство с именем русского увидит все, что сан человека и гражданина вмещает в себе доблестнейшего...
Слог и содержание записки были выбраны верно: власть приняла покаяние, и санкций против Никитенко не последовало, тем более что от редакторства он отказался.
Более того: в очередной раз Николай I продемонстрировал ритуал обращения сурового, но справедливого отца с заблудшим, но вернувшимся, осознавшим свою вину и покаявшимся сыном.
По свидетельству современника, письмо Никитенко:
Орлов показал... Государю. Государь велел объявить Никитенке, что он благодарит его за благородные чувства, что он никогда не сомневался в них и уверен, что и впредь он будет вести себя как прежде!
Краевский же вынужден был проделать два демонстративных акта, по числу угроз — от себя лично и в качестве редактора журнала, которому было дано минимальное время для смены его направления на сугубо благонадежное (то есть официально- и вызывающе-патриотическое).
Свое объяснение Краевский представил Дубельту, а тот передал содержание их диалога (и, вероятно, письменное объяснение редактора) Орлову.
Это письмо Краевского — редкий пример коммуникации редактора с высшей властью, выстроенной не в соответствии с полярной иерархией, — от кающегося подданного к «Его Помазаннику» и его ближайшим помощникам. (Краевский мог справедливо предполагать, что Орлов доложит о его письме царю, выбрав из него необходимые цитаты.) Вместо одической сложности Краевский выбрал предельно простой и ясный язык, подчеркивающий его искренность и чистоту помыслов и намерений, равно как и отсутствие всяческого подобострастия. Эта (кажущаяся) простота — хорошо продуманная социальная игра, в которой автор текста не уничтожает огромную дистанцию между высшим на земле судией и собой, подозреваемым в государственном преступлении, а подчеркивает ее, воздвигая венценосного читателя на еще большую высоту — туда, где словесные украшения излишни и где способны читать истину в сердцах людей. Скорее всего, Краевский знал о симпатиях царя к прямому, «искреннему» обращению.
Кроме того, при написании этого личного оправдания Краевский пытается «успокоить» власть, уверяя ее в единодушной поддержке общества.
«Краевский чрезвычайно опечален и поражен, так что до сих пор не может приняться за работу. Вот содержание откровенного его разговора», — передавал Л. В. Дубельт.
Объявление, что со мной, если буду продолжать журнал мой в прежнем духе, поступят как с государственным преступником, совершенно уничтожает меня. Несколько дней я думаю только о том, неужели правительство в самом деле считает меня способным на государственное преступление?
Я русский, с детства проникнут монархическими правилами; я отец семейства и содержу себя моими трудами; я слишком понимаю, что если я спокоен и счастлив, то этим обязан единственно нашему правительству, которое охраняет меня. Могу ли я желать подкапываться под этот порядок? Это значило бы идти против своих чувств и против самого себя.
Пусть рассмотрят жизнь мою. Все знающие меня подтвердят, что я не сделал ни одного дурного поступка, не сказал никому и никогда ничего неблагонамеренного; я имею небольшой круг знакомых и у них бываю редко; всегда почти сижу в моем кабинете и работаю. Если я так безукоризнен в поступках и даже в словах, то могу ли я с намерением распространять злоумышленные идеи в столь гласном издании, каков журнал?
Не только за себя, даже за других русских я готов поручиться. Вникав в них прежде и ныне, я убежден, что все они неограниченно привержены к Государю Императору и к Отечеству. Случается, иные что-нибудь болтают, но это одни слова, а в сердце никто из нас не изменяет природному чувству русского человека.
При настоящих происшествиях в Европе мы все, русские, одного желаем, чтобы в нашем государстве сохранился существующий порядок; об одном умоляем, чтобы Государь Император не допустил до нас потока, который в других государствах губит и общественное спокойствие, и частную собственность, и личную безопасность.
Могу ли я, при таких убеждениях, с намерением вводить в мой журнал какие-либо разрушительные мысли? Если в нем были помещаемы статьи, которые можно понимать в этом смысле, то или от неосмотрительности, или от непредвидения, какое толкование сделают читатели.
В выбранной стратегии защиты Краевский идет на риск, переходя далее в своего рода наступление — заявляя, что во все время своего редакторства он лишь мечтал о том, чтобы превратить журнал в официозный правительственный орган, и если этого не произошло, то лишь в результате неудачного стечения обстоятельств и его редакторской скромности.
Не только действовать против правительства, но я бы желал быть органом его. Не делал этого я потому, что без уполномочия правительства не имею на это права, да и цензура не пропустит подобных статей. Если б мне поручили представлять в истинном губительном виде заграничные беспорядки, доказывать благость монархического правления, поддерживать повиновение крестьян помещикам и вообще распространять те мысли и убеждения, которые правительство желает видеть в народе, я уверен, что журнал мой был бы полезен и государству.
Пусть мне дают темы, что я должен писать, или пусть мне дозволят представлять такие статьи, не пропускаемые обыкновенною цензурою, высшему правительству, и я со всею готовностью буду его орудием.
Если этот вызов мой не примется, то, по крайней мере, он доказывает, что я не враг правительству, а в полном смысле слуга и верноподданный моему Государю.
Мысль, что меня считают способным к злоумышлению, так ужасает меня, что я готов бросить издание моего журнала и жить с моим семейством в нищете, только б правительство, которому я предан, было спокойно.
Здесь нельзя не отметить смелый тактический ход Краевского: в сложившихся обстоятельствах власть не стала бы выбирать «Отечественные записки» своим «карманным», официозным изданием. К тому же он прекрасно понимал, что такой открытый переход в роль «Северной пчелы» стал бы провалом для его журнала и отпугнул бы от него большинство подписчиков. Это предложение было риском, но и одним из самых сильных аргументов в пользу собственной благонамеренности и преданности правительству.
Кроме того, Краевский далее делает и небывало дерзкий шаг: от оправданий и прямого предложения сотрудничества он переходит к репрезентации современной журналистики как жертвы и, пользуясь случаем диалога с высшей властью, просит ее о защите от Комитета по надзору над цензурой.
Еще тревожит меня другое обстоятельство. Слышал я, что над журналами сверх обыкновенной цензуры будет еще высшая цензура, состоящая из Бутурлина, барона Корфа и Дегая, которая будет читать журналы и о замеченном ими доводить до Высочайшего сведения. В Бутурлине и Корфе все уверены, но Дегай еще не так быстро идет по службе, чтобы не желал выслужиться, а при этом желании он будет стараться найти дурное, чтоб иметь, о чем доложить. При желании же толковать дурно, все, самую невинную вещь, можно перетолковать в дурную сторону. Кто защитит нас?
Степень смелости и дерзости Краевского можно оценить, зная, что П. И. Дегай был назначен в Комитете ответственным за просмотр «Отечественных записок». Дегай не отличался либеральностью суждений (если такое определение было бы применимо к членам Комитета), но был известен исполнительностью. Так, получив под свою ответственность журнал Краевского, он первым делом занялся проверкой юридического обоснования его передачи от вдовы прежнего владельца Свиньина и иными документами.
По этим-то двум опасениям, не считают ли меня действительно способным на государственное преступление, и кто защитит нас в случае преувеличенного обвинения, я желал послать письмо к графу Алексею Федоровичу Орлову, но не смею, и очень желал бы, чтоб Леонтий Васильевич Дубельт дозволил мне явиться к нему и просить советов и наставлений.
Заканчивал свой текст Краевский поклоном администрации III отделения.
«Все это Краевский, — писал Дубельт своему начальнику и апреля 1848 г., — говорил без всяких с моей стороны расспросов: его опасения так велики, что он, кажется, и не может говорить ни о чем другом. Сам же он просил меня передать Вам просьбу его о дозволении ему явиться к Вашему Превосходительству».
Перед тем как перейти ко второму документу Краевского — его вынужденно-программной статье в «Отечественных записках», необходимой для спасения журнала, возможных будущих изданий (одной из властных угроз был запрет на будущую редакторскую и издательскую, то есть профессиональную деятельность) и собственной участи, — необходимо пояснить, почему при всей упорно доказываемой крамоле и «революционности» «Отечественные записки» не были закрыты (как, например, ранее журналы «Телеграф» и «Телескоп»).
Администрация вполне понимала отличие второй половины 1840-х гг. от 1830-х (времени запрещения упомянутых изданий). Количество подписчиков журнала — 4 тыс. человек — означало появление некоего общественного мнения (конечно, весьма призрачного, сосредоточенного в основном в столицах и в остальном рассеянного по губерниям и уездам обширной империи). Однако читатели журнала были людьми образованными и активно интересовавшимися теми явлениями, что были отмечены комитетскими цензорами, а именно в области просвещения, прогресса и новых философских и социальных учений.
Закрытие журнала стало бы скандалом и лишь усилило бы интерес к идеям и литературным произведениям, им предлагаемым, кроме того, привыкшие к эзопову языку и шифрованию общественно-политической информации, читатели узрели бы в ранее опубликованных текстах даже те смыслы, которых туда и не вкладывали. Еще хуже, если бы запрет сомнительных, но все же подконтрольных «Отечественных записок» привел образованных читателей к чтению французских изданий, то есть абсолютного, с точки зрения властей, зла.
Запрещение такого издания произвело бы на публику весьма неблагоприятное впечатление, все бросились бы к прежним распроданным уже книжкам и с жадностью и вниманием перечитывали бы то, что доселе, может быть, читано было поверхностно или и вовсе пропущено. Кроме того, эти 4 т. подписчиков, заплатившие за годовое 1848 г. издание вперед 66 т. руб. сереб., приведены были бы запрещением сего журнала к лишению и заплаченных денег, и чтения, на которое рассчитывали, и заменили бы его, может быть, чтением иностранных книг (...за направлением которых наблюсти гораздо труднее).
По сим соображениям Комитет, не решаясь приговорить сей журнал к запрещению, по крайней мере до истечения года, полагает, что полезнее во всех отношениях будет обратить самое строгое внимание цензуры на журнал этот и объявить редактору, что по духу его журнала правительство имеет за ним особенное наблюдение, и если впредь замечено будет в оном что-либо предосудительное или двусмысленное, то он лично подвергнут будет не только запрещению продолжать свой журнал, но и строгому взысканию.
Администрация попала в собственноручно созданную ловушку: запрет периодических изданий такого тиража и известности невозможен, поэтому следует воздействовать на их редактора так, чтобы он заявил о лояльности правительству сам. Под угрозами запрета на дальнейшую профессиональную деятельность и личной свободы редактор должен сделать яркий демонстрационный жест, который убедит часть публики в его благонамеренности и полной солидарности с политикой государства, а в глазах другой части публики дискредитирует и себя, и свой журнал, приравняв его, по сути, к официозу.
Теперь в ловушку попал Краевский, и уже весной он написал обширную статью на актуальную тему «Россия и Западная Европа в настоящую минуту», где живо обрисовал создавшийся политический водораздел между спокойной Россией и мятежной Европой — некую нравственную, этическую, религиозную «китайскую стену», существование которой не объясняется сиюминутными действиями правительств, но является закономерным следствием различного исторического развития двух систем.
Краевский, так редко выступавший в качестве публициста, здесь являет яркий писательский и полемический талант, к проявлению которого его могла подвигнуть только угроза существованию его детища — журнала.
Обозначив несколько известных тезисов, отсылающих к идеологии «официальной народности», Краевский приступает к анализу различного исторического контекста и обстоятельств развития Европы и России: в большинстве европейских стран «политическое их существование началось завоеванием», «...феодализм был одною из причин, которые в развитии своем вели к борьбе государственных стихий, а борьба, почти непрерывная, раздражала страсти и вела к революции, то есть к ниспровержению существовавшего порядка и хаотическому состоянию общества».
Среди других исторических причин, приведших к революциям в Европе, согласно Краевскому, была «власть папы, столько же политическая, сколько духовная <...>, произведшая кровавую распрю западных народов, известною под именем Реформации XVI столетия».
Все эти и другие, перечисленные Краевским, особенности истории привели к психологическим проблемам взаимодействия европейских властителей и подданных:
...никогда народы, образовавшиеся под влиянием феодализма и папской власти, не были искренно, душевно, глубоко привязаны к своим властителям; напротив, они всегда глядели на них неприязненно, подозрительно и почитали повиновение им только необходимою уступкою.
Далее автор по контрасту описывает положение дел в России, используя в том числе и известную формулу источника русской власти:
Государство Российское началось не завоеванием, сделавшим на Западе туземцев рабами, а свободным призванием властителей, которые с самого начала стали управлять Россиею не на основаниях феодализма, а на основаниях патриархальной, отеческой, самодержавной власти.
Вероятно, если бы в стане сторонников официальной народности был публицист с талантом Краевского, их идеология была бы гораздо популярнее.
Не стоит удивляться, что теоретик официальной народности — М. П. Погодин — быстро обнаружил утечку и неправомерное использование журнальным и идеологическим противником кропотливо разрабатываемых им идей («Ты не можешь вообразить омерзения, произведенного ею в душе: просто тошнота, что написали подлецы...» —жаловался он в письме С. П. Шевыреву).
Возмущение Погодина было так велико, что он решил обвинить Краевского в плагиате, напечатав в своем «Москвитянине» выдержки из своих статьей и «России...» Краевского в качестве аргумента.
Однако даже если бы ему это удалось (статью запретила цензура), сравнение двух «сочинений» на одну и ту же тему явно было бы не в пользу Погодина, писавшего часто слогом, вполне подходящим для исторических сочинений, но в неспециализированном журнале нередко казавшимся тяжелым и вязким.
Краевский же писал статью в расчете на одного читателя — если под «одним» подразумевать высшую государственную власть в виде администрации III отделения, Комитета по надзору над цензурой и императора.
Статья предполагалась как максимально ясная и недвусмысленная присяга власти, манифест верноподданнических чувств, подкрепленный «научными» историческими фактами, в противовес и дополнение «эмоциональному акценту» текстов «Северной пчелы» (учитывалась и разница читательской аудитории), и ошибиться было нельзя.
Приказ Краевскому о публичном объявлении своего редакторского profession de foi был сделан так однозначно, что статью он послал напрямую графу А. Ф. Орлову, предварив ее письмом.
Это письмо (от 25 мая 1848 г.) достойно цитирования полностью — как один из немногих образчиков прямой коммуникации журналиста и высшей власти (своеобразная интерпретация и развитие темы «Журналист, читатель и писатель»):
Ваше превосходительство
Милостивый Государь!
Пользуясь благосклонным позволением Вашего Превосходительства, имею честь представить при сем статью «Россия и Западная Европа в настоящую минуту», предназначенную для помещения в особый отдел моего журнала, названный «Современною хроникою России». Предмет статьи до того высок и обширен, что, как ни старался я быть кратким, не мог сделать ее короче, а между тем многого должен был только слегка коснуться в ней, не вдаваясь в подробности, — отчего и самая статья вышла довольно сухою и, может быть, слишком серьезною. При мысли о России в нынешнем ее отношении к Европе в душе всякого истинно русского возникает так много ощущений, что трудно заключить их в тесные пределы одной журнальной статьи. Мне же было это еще труднее, потому что давно чувствовал я необходимость выразиться об этом предмете со всею искренностию и всегда встречал препятствие в цензуре, которая не дозволяла ни отдельных таких статей, ни даже вставных мест в других статьях, называя их политическими рассуждениями, неуместными в журнале неполитическом.
Это второе письмо Краевского главе III отделения удивляет не меньше первого. Тем же ровным, ясным слогом, без лести и с классицистической простотой редактор сообщает, что статья его относится к области научной, но не (прямо) публицистической, оттого требовала фундирования и получилась длинной и «довольно сухою». Так автор дает понять, что им двигало желание не угодить власти, а аргументированно донести до читателя истинное историческое и современное социально-политическое положение дел.
Однако это не было с его стороны сухой исторической штудией: он не мог не излить в тексте искренних патриотических чувств, «ощущений» верноподданного, в итоге объективный анализ был одухотворен живой любовью.
Здесь Краевский проводит очень рискованную линию: оказывается, отсутствие подобных статей в его журнале объясняется строгостью цензуры: именно она виновата в том, что, будучи неспособной отличить крамолу от истинного служения властям, лишает читателей такой идеологически выверенной информации.
В противном случае в «Отечественных записках» давно бы появился ряд статей в этом духе — отголоске моих давнишних глубоких убеждений. Если Ваше Превосходительство изволит припомнить, я начал свое журнальное поприще в 1837 году в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» статьею «Мысли о России», которая, удостоившись Вашего одобрения в рукописи, тогда же и была напечатана в 1-м и 2-м №№ этой газеты. С тех пор как в «Литературных прибавлениях», так и в начатых мною в 1839 году «Отечественных записках» цензура не дозволяла подобных статей на основании выше сего упомянутом, и я, принужденный отказаться от бесед с моими читателями о предмете, может быть, наиболее для них интересном, должен был ограничиться статьями чисто учеными и литературными. Не имея возможности говорить о России, я, чтоб говорить что-нибудь в своем журнале, должен был говорить о Западной Европе. Постепенно это чужеземное влияние проникло в мой журнал — и «Отечественные записки», долженствовавшие беседовать с читателями преимущественно об отечественном, рассуждали больше всего об иностранном, хотя в них и сохранился отдел «Современной хроники России», в котором дозволялось печатать сокращенно Высочайшие указы и официальные известия, без всяких объяснений и размышлений. Мало-помалу сотрудники мои, большею частию молодые люди, увлекшись этим направлением, часто увлекали и меня, заставляя без внимания пропускать мысли, что, по своему впечатлению, на читателей могло произвести вредные для них последствия. Все это продолжалось в таком виде до тех пор, пока страшные новейшие события не указали, к какой ужасной бездне может привести это иноземное влияние. Теперь и следа его нет в «Отечественных записках»! Но, Ваше Превосходительство, можно ли, особенно в настоящее время, ограничиваться, в отделе «Современной хроники России» одним указанием на официальные известия, прочтенные уже в ежедневных газетах моими читателями?
Краевский упрекает цензуру, не допускающую его высказываться на злободневные темы с проправительственной позиции, и аккуратно переходит к упоминанию своих прошлых публицистических заслуг: давней статьи, заслужившей одобрение III отделения.
Следующий логический переход рискован до того, что граничит с издевкой: оказывается, прозападническое направление «Отечественных записок» было вынужденным, и вина эта также лежит на неразумной цензуре министерства народного просвещения, не постигающей истинные виды правительства и те журналистские усилия, что предпринимаются для его блага.
Если б представляемая при сем статья удостоилась одобрения и если б в этом роде статьи, служащие к объяснению того, что отрывочно печатается в России в газетах и производит неизвестно какое впечатление на массу читателей, могли быть допущены в «Отечественные записки», я почел бы себя счастливым, трудясь над их составлением. Как верный сын России, как верный подданный моего Государя и благодетеля, которому я, бедный сирота, обязан всем — и воспитанием, и тем, чем пользуюсь теперь в жизни, я, вероятно, дал бы этим статьям направление и интерес, которые возможно придать сочинению тогда только, когда пишешь его с чувством и увлечением. Не на пустых газетных фразах и возгласах основал бы я статьи свои, но на непреложных исторических фактах, которые всем видимы, но которые легко забываются, если не напомнить о них при всяком удобном случае. В таком духе написана и статья, теперь мною представляемая. Чувствую, что главный недостаток ее — недостаток таланта, который мог бы сделать ее живее и увлекательнее, но, смею думать, Ваше Превосходительство, отдадите справедливость ее искренности, потому что все сказанное в ней сказано не для фразы, а основано на указаниях истории и на душевном убеждении. Если б Вашему Превосходительству угодно было одобрить мысль мою о составлении ряда таких статей в отделе «Современной хроники России», я осмелился бы тогда представить программу их.
С совершенным почтением и душевною преданностию имею честь быть
Вашего Превосходительства,
Милостивый Государь,
покорнейший слуга.
Андрей Краевский
В последней части письма Краевский не удержался от риторических формул религиозного (почти агиографического) жанра: он готов приложить все свои публицистические силы (как приложил их в представляемой статье) в воздаяние должного (то есть восхваление) современной политике России, и помешать этому может лишь недостаток его таланта.
Следует признать, что логически некоторые доводы Краевского, мягко говоря, небезупречны (как, например, заявление «Не имя возможности говорить о России, я, чтоб говорить что-нибудь в своем журнале, должен был говорить о Западной Европе»).
Однако, вероятно, власти нужна была не столько логика, сколько выражение искренности и манифестация лояльности — которую она (власть) и получила.
В отношении № 1031 от 31 мая 1848 г. Л. В. Дубельт, проявляя тем самым трогательную заботу о соблюдении законного хода вещей, сообщал:
Г. Генерал-Адъютант Граф Орлов, прочитав и одобрив составленную Вами статью... изволил отозваться, что Его Сиятельство не находит препятствия к напечатанию этой статьи в издаваемом Вами журнале «Отечественные записки», если напечатание оной разрешит и обыкновенная цензура.
На письме же Краевского тем же Дубельтом было подписано: «Граф Орлов одобряет и не находит препятствия к напечатанию, если обыкновенная цензура разрешит».
Статья Краевского появилась в июльской книжке «Отечественных записок» — к удовольствию Комитета и других высших властей.
Уже в августе Комитет по надзору над цензурой сообщил царю в очередном журнале (в № 21):
...о замеченном Комитетом лучшем направлении журнала «Отечественные записки» и о дозволении объявить чрез Министра Народного Просвещения редактору оного, Коллежскому Советнику Краевскому, что помещенная им в 7-м № того журнала статья под заглавием «Россия и Западная Европа в настоящую минуту» удостоилась обратить на себя Всемилостивейшее внимание Государя Императора.
Более того:
...на всеподданнейшей записке Председателя, при коей был представлен подлинный журнал, Государь Император собственноручно изволил написать карандашом: «Согласен, желательно, чтоб было искренно».
С искренностью, однако, было не так просто. По свидетельству Н. И. Надеждина, Краевский «предварительно извещал» его о статье «Россия и Западная Европа...» «с самодовольством говоря, что он так напишет, что сам Булгарин расчихается».
Надо полагать, в этом отношении Краевский также достиг цели. «Расчихался» не только Булгарин, но и М. П. Погодин, разоблачительную статью которого цензура не пропустила.
В конце августа председатель Московского цензурного комитета Д. П. Голохвастов сообщал С. С. Уварову:
Ценсор Лешков представил Комитету назначаемую для помещения в «Москвитянин» статью под заглавием «Несколько слов и выписок по поводу статьи „Россия и Западная Европа в настоящую минуту“» с таким мнением, что статья эта, подавая повод внести в журнальную полемику важнейшие вопросы государственной жизни России, представляет для него затруднение в этом отношении, требующее распоряжения Высшего Начальства.
Высшее начальство распорядилось статью Погодина не пропускать.
Таким образом, путем тяжелых (и отчасти невосполнимых) репутационных потерь Краевский одержал победу в начале «мрачного семилетия» — победа в этом случае означала личную свободу и продолжение издания «Отечественных записок».
Дальнейшим поведением Краевского интересовался и лично надзирающий за всем происходящим в империи Николай I.
В записи от 8 мая М. А. Корф описывал свою встречу с царем, где он уверял последнего в предельной бдительности Комитета:
— Государь! Мы считаем обязанностию доводить до Вашего сведения о каждом нашем замечании, даже и мелочном...
Так, так совершенно справедливо. <...> Ну, а что теперь Краевский с «Отечественными...» своими «...записками» после сделанной ему головомойки?
Государь, я теперь именно читаю майскую книжку и нахожу в ней совершенную перемену: нет больше тут ни прогресса, ни современных интересов и вопросов, ни прежнего таинственного арго, и вообще совсем другое направление. Повешенный над журналистами Дамоклов меч, видимо, дает добрые плоды.
Надеюсь и, признаюсь, не могу только надивиться, как прежде могло вкрасться противное.
Корф не лукавил: до самой смерти Николая I в русских периодических изданиях действительно не было «ни прогресса, ни современных интересов и вопросов».