Как китаянка рассказала всему миру о коронавирусном карантине
Logos Review of Books на «Горьком»
Глубокомыслие и отвага. По страницам китайского карантинного дневника
Евгений Блинов
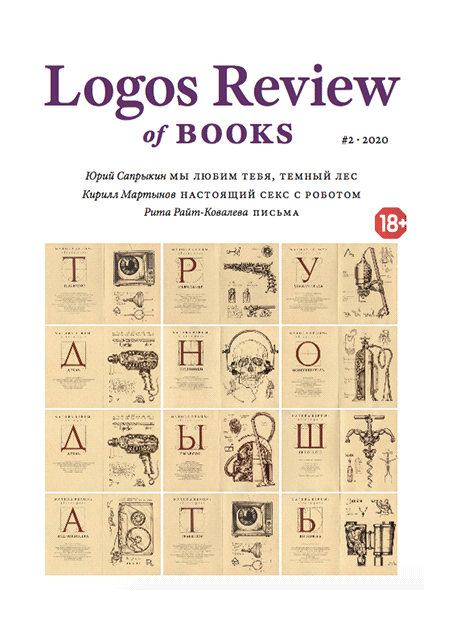 Fang Fang. Wuhan Diary: Dispatches from a Quarantined City. New York: HarperVia, 2020. Translated by Michael Berry
Fang Fang. Wuhan Diary: Dispatches from a Quarantined City. New York: HarperVia, 2020. Translated by Michael Berry
Искусство, как было сказано, вольнó от жизни, но проблема в том, что жизнь стремится ему подражать. Карантинные флаги над городами старят слова и идеи, но омолаживают вещи. Мы с удивлением перелистываем почти забытые книги, достаем из кладовок запылившиеся пластинки, новыми глазами смотрим фильмы, которые когда-то помнили наизусть. Меняются формы, едва заметно смещаются стилистические рамки. Иные подзабытые жанры переживают кратковременный, как считают некоторые, ренессанс. Именно это, насколько можно судить по первым месяцам глобального карантина, отчасти произошло с длинными сетевыми дневниками, которые, казалось, ушли в прошлое под натиском все более лаконичных форматов. Отдельные издатели и критики уже поспешили вручить им lettres de noblesse: не успели заработать в «довоенном» ритме типографии, магазины и службы доставки, как сетевые хроники стали появляться в виде отдельных книг. Сначала как электронные препринты, но уже совсем скоро — в книжных лавках Европы и лучших домах Миннеаполиса.
В этом смысле «Уханьский дневник» китайской писательницы, известной под псевдонимом Фан Фан (кит. 方方, в латинской транскрипции — Fang Fang), стал первой ласточкой перед мировой грозой. Ситуация для ее западных издателей была практически идеальной: о контракте на английский перевод было объявлено в день снятия карантина в Ухане восьмого апреля. Сами же переговоры, как отмечает переводчик Майкл Берри, начались в середине февраля, когда еще не был понятен ни масштаб эпидемии в Китае, ни тем более перспективы ее распространения в Европе и США. Запомним это имя: роль Берри, профессора азиатских культур и языков в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе явно не ограничивается переводом. По стечению обстоятельств он как раз выпускал на английском роман Фан Фан «Soft Burial», что можно передать на русский как «Похороны налегке». Его публикация в Китае в 2016-м сопровождалась скандалом, роман подвергся нападкам неомаоистов. (Вообще же книги Фан Фан до сих пор были куда лучше известны в Европе, чем в англоязычном мире: на французский, например, переведено уже четыре ее романа, включая упомянутый; по-русски в 2017-м в «Издательстве восточной литературы» вышел короткий роман «Пейзаж» (1987) в переводе Марии Семенюк.) Среди научных интересов профессора Берри китайский кинематограф двадцатого века и «травматическая» литература, для которой существует специальный английский термин «scar literature» — «литература шрамов», он автор монографии с характерным названием «История боли». Когда исследователь подобного уровня берется за срочный перевод сетевого дневника, становится понятно, что любые совпадения не случайны. Мы еще вернемся к послесловию переводчика — короткому, но весьма любопытному тексту.
Не поверили в совпадения и современные сетевые хунвейбины и цзаофани: западная пресса немедленно сообщила о травле Фан Фан в китайских соцсетях и официальной прессе, обвинявших ее в распространении слухов, принижении роли партии и спекуляциях на страданиях жертв эпидемии. И, разумеется, в фактическом участии в пропагандистской войне на стороне Запада: новость о скором выходе английского перевода совпала с обвинениями президента Трампа в адрес Китая и ВОЗ. На этом фоне как «предоставление слова» предполагаемому критику режима, так и возмущение «крайне левых» в самом Китае выглядело вполне ожидаемо. Впрочем, привычная антиавторитарная риторика с легким налетом ориентализма звучала не очень убедительно. Достаточно упомянуть о титанических масштабах виртуальных битв китайского мира: в социальной сети «Вейбо» «дневник Фан Фан» на начало апреля имел 380 миллионов просмотров, 94 тысячи дискуссий, более восьми тысяч оригинальных постов, а в пиковые дни отдельные записи имели от трех до десяти миллионов «хитов». Понятно, что столь колоссальный организм и без всякой цензуры должен работать по каким-то иным принципам, чем англо- , франко- или русскоязычные сетевые сообщества. Даже экстренное награждение Фан Фан Нобелевской премией и перевод на основные языки мира никогда не дадут ей аудитории, сопоставимой с домашней. Несмотря на сообщения о жесткой цензуре и арестах «разоблачителей», она вела свой дневник с конца января по начало апреля для многомиллионной аудитории, поэтому его публикация в английском переводе плохо вписывается в известный нам диссидентский дискурс о выборе свободы. Свирепый новый мир постправды, постсправедливости и постсвободы, похоже, имеет мало общего со старыми разделениями на Запад и Восток, тоталитаризм и демократию. Видимо, это именно тот случай, когда стоит послушать философа, который советовал не проклинать или восхищаться, а понимать.
Попробуем же осмыслить феномен «Уханьского дневника», сохраняя при этом стилистическое хладнокровие, как говорил Шкловский. А вместе с ним хладнокровие методологическое и все прочие навыки, доставшиеся нам от критической литературной теории прошлого века. Мы живем в эпоху победившей интертекстуальности, когда разница между электронными и бумажными носителями, оригинальным текстом и комментариями весьма условна. Литературные стратегии неотделимы от стратегий коммуникационных, коммерческих и политических. Для анализа подобных пересечений и смен регистров нет ничего полезнее и поучительнее превращения сетевого дневника в «большую литературу», по воле случая происходящего у нас на глазах.
Итак, перед нами образцовый представитель нон-фикшн — сверхактуального гибридного жанра, новой «литературы факта», который одновременно является политическим высказыванием. И который стоило бы придумать, если бы он не был создан реальным человеком. Он точно был бы написан кем-то другим, если бы его не подписала своим именем китайская писательница Фан Фан, подобно тому как «Евгений Онегин», по убеждению известного специалиста по литературе факта, был бы написан другим автором, даже если бы Пушкина никогда не существовало. 25 января 2020 года, в день объявления общего карантина в городе Ухань, пользовательница китайской социальной сети «Вейбо» сообщает, что будет вести дневник карантинных событий. Ее основной мотив — терапевтический: записывать все, что происходит, для поддержания душевного равновесия в замкнутом пространстве. Она еще сама не знает, насколько окажется права: карантин будет снят только восьмого апреля. А ее дневник будут читать десятки, если не сотни миллионов китайцев «на континенте» и во всех частях света, где есть китайская диаспора.
 Владимир Потапов. День 45-й (Хроники изоляции). 2020
Владимир Потапов. День 45-й (Хроники изоляции). 2020
Эта пользовательница оказывается далеко не рядовым юзер-неймом. Она — профессиональная писательница, опубликовавшая, по ее собственным словам, «более ста книг» и «живущая за счет своего пера». Более того, в течение многих лет она возглавляла союз писателей провинции Хубэй, столицей которого является Ухань, где жила с начала 60-х. Подобные союзы отнюдь не фикция в современном коммунистическом Китае: Фан Фан упоминает о том, что они реально заботятся о пожилых писателях, а в представлении обывателя их высшие чины наделены административной властью и связями, что, впрочем, она всячески отрицает. За это привилегированное положение ей придется не раз оправдываться: не будем забывать, что ее главные оппоненты, которых в западной прессе иногда без разбора называют «китайскими националистами», это «крайне левые». Ее связи чрезвычайно важны и с точки зрения сюжетной механики: одним из главных действующих лиц повествования является ее «друг доктор», который сообщает о развитии эпидемии, а также профессора различных университетов и даже анонимные руководители разных рангов. Все это должно вызывать доверие китайских пользователей: к ним обращается явно не безвестный торговец морепродуктами с уханьского рынка или прозападный студент-карбонарий из Гонконга.
В конце января для Фан Фан и сотен миллионов китайцев начинается изматывающий карантинный марафон. Она методично записывает все новости «с фронта», цены на продукты, состояние здоровья родственников, имена заболевших и погибших медиков или знакомых профессоров. В ее дневнике, как сообщает нам профессор Берри из UCLA, «повседневность сочетается с эпосом». Хотя, на взгляд дилетанта в области китайской литературы, повседневность явно преобладает: посты начинаются с погоды, а затем буднично перетекают в описание известных ей происшествий. Западному читателю подобный стиль известен по японскому жанру короткой прозы «дзуйхицу», который переводят как «следование за кистью». Впрочем, от традиционного дзуйхицу дневник Фан Фан отличает отсутствие всякого лиризма и весьма незначительная концентрация литературных аллюзий. Монотонное повествование прерывается инвективами в адрес местных властей, о чем, впрочем, необходимо сказать отдельно.
Как и полагается дневниковой прозе, портрет рассказчицы складывается постепенно из совершенно различных элементов. Мы узнаем, что у нее есть несколько старших братьев, родившихся до введения политики одного ребенка на семью. Младшее поколение — уже вполне «глобал чайниз», ее дочь учится в Японии и возвращается домой во время китайского Нового года, а племянница, наоборот, успевает улететь домой в Сингапур до закрытия границ. Это поколение вызывает у нее особое беспокойство: молодые китайцы из благополучных семей, те самые «королевские дети», судя по ее дневнику, не только не могут заботиться о престарелых родственниках, но и сами нуждаются в опеке. Незадолго до полного закрытия города Фан Фан отправляется к квартире свой дочери и оставляет перед дверью сумку с продуктами, а затем объясняет ей по телефону, как приготовить кабачок. Хотя у соседей высокая взаимовыручка и нет перебоев с поставками продуктов, каждый день происходят маленькие трагедии: социальные службы находят в квартирах тела одиноких стариков; ребенок-инвалид, отец которого остался за пределами карантинной зоны, умирает от голода. Что еще хуже, родственники не могут организовать достойную церемонию прощания, а в китайской культуре, замечает Фан Фан, ритуалы погребения зачастую «важнее того, как мы жили». Все это, впрочем, не является обжигающей правдой, а взято из открытых источников. Критики обвинят Фан Фан в распространении слухов, но отсутствие возможности их проверить, то есть выполнить самую обычную для журналиста или писателя работу, в подобной ситуации не ее вина. Правдоподобный слух — самый действенный из всех искусственных заменителей правды. При этом распространение слухов по китайским законам — серьезное правонарушение, и, судя по отсутствию реакции властей, черту она все-таки не переступает.
Хорошо знакомая советской интеллигенции игра с цензурой происходит в Вейбо практически каждый день, и Фан Фан, насколько можно судить, игрок опытный и достаточно хладнокровный, несмотря на всю эмоциональность ее постов. Мы узнаем, что в Вейбо есть функция тайной цензуры, когда сам пользователь уверен, что пост опубликован, хотя на самом деле его видят только администраторы. Для подтверждения необходимо обращаться к знакомым, так что автор оставляет дополнительный след в сети. Не говоря уже о специальной функции подконтрольных китайскому правительству соцсетей, когда за авторами крамольных постов непосредственно по их домашнему адресу выезжают борцы с фейковыми новостями. «Оставайтесь на линии, наш специалист свяжется с вами». Иногда ее сообщения оказываются холостыми, несколько раз аккаунт блокируют, но всякий раз возвращают обратно. Но даже во время вынужденного простоя, как сообщает профессор Берри, слово мчится, подтянув подпруги: репосты разлетаются по сетям миллионами и даже в виде pdf-файлов — самиздата, или, точнее, самформата цифровой эпохи. Внимательный читатель вправе заподозрить, что китайская цензура либо чересчур легкомысленна, либо ведет какую-то сложную игру с лидерами общественного мнения. Возникает хорошо знакомый нам эффект: почему «ты такой смелый и до сих пор на свободе»?
Возникает он скорее всего потому, что слухи о ее смелости оказываются несколько преувеличены. Фан Фан описывает типичный эпидемический сценарий: отрицание опасности, заявление о полном контроле, неготовность местных властей, слишком поздно введенный карантин, нехватка масок и коек, заражение врачей, похороны без церемоний. Но все эти проблемы так или иначе можно свести к «перегибам на местах»: в конце февраля она пишет о самой первой январской комиссии, заявившей, что вирус не передается от человека к человеку, и руководстве города, не отменившем праздничные мероприятия и не сообщившем в центр о положении дел. То есть о фактах, официально признанных, и виновниках уже назначенных. Обвинения «крайне левых» в принижении роли китайских медиков также безосновательны: восхваления «сорока тысяч ангелов, спустившихся в Ухань», можно найти на десятках страниц ее дневника. При этом Фан Фан постоянно подчеркивает, что, как только прибыла помощь из центра и вмешались армейские специалисты, ситуация сразу была взята под контроль. Тщетно будут искать в «Уханьском дневнике» факты для обвинения руководства китайской компартии западные журналисты и агенты спецслужб. Как бдительный представитель симпатичного нацменьшинства из советского анекдота, Фан Фан прекрасно знает, кто в Китае начальник Партии.
Нет в «Уханьском дневнике» и беспокойства о надвигающемся «цифровом тоталитаризме» и контроле за перемещениями граждан — скорее постоянные призывы «соблюдать протокол» и возмущение тем, что местные власти не ввели его вовремя. Этот обвинительный пафос — один из лейтмотивов всего дневника. Как мы могли убедиться, он весьма избирателен. Похоже, умеренно оппозиционная китайская интеллигенция может в отведенных ей рамках рассуждать на тему «кто виноват?», а вот вопрос «что делать?» уже относится к прерогативам ЦК КПК. Возникает подозрение, не были ли кандидатуры козлов отпущения если и не согласованы заранее, то, во всяком случае, утверждены неким негласным и непонятным нам образом.
После десятков страниц обвинений участников первой комиссии и уханьских властей, все это становится похоже на какое-то ритуальное хуление. Фан Фан нередко рефлексирует по этому поводу: в Китае, говорит она, проклятия в адрес предполагаемых виновников, их семьи и предков являются устоявшимся культурным ритуалом. Усиленной и модифицированной маоистскими практиками «покаяния» и «самокритики». Она даже подает это в форме восточной притчи: дочь Фан Фан спрашивает своего 99-летнего деда, как он смог прожить так долго в столь неспокойное время. На что старик отвечает: «Ешь как можно больше жирного мяса, никогда ни в чем не упражняйся и не забывай проклинать тех, кто этого заслуживает».
Наверное, по этой причине профессору Берри не стоит переживать из-за тех шестисот сообщений с проклятиями и пожеланиями смерти его семье, которые он получил в своем мессенджере на Вейбо в день объявления о скором выходе американского издания «Уханьского дневника». О преследовании врагов или критиков режима за пределами «континента» до сих пор ничего не было известно, да и современный Китай — явно не Северная Корея и, насколько можно судить по дневнику Фан Фан, работает с потоками информации куда искуснее предшественников. Здесь самое время задать вопрос, не является ли вся история с «предоставлением слова» безмолвным жертвам проекцией собственной культуры, столь часто возникающей в сравнительной антропологии? Может ли это «откровенное высказывание» быть частью принципиально иной культурной практики? Берри говорит об «откровенном высказывании» — «speaking out», ведь именно так на английский переводят фукианскую «парресию», или «franc-parler», то есть откровенную речь перед лицом власти, которая противопоставляется риторике. Возможно, это принципиально иная дискурсивная практика, которая только издали напоминает то, что Фуко называл парресией в западноевропейской культуре.
Помимо прочего, это создает проблему «подходящего свидетеля» и его искусственного конструирования исследователем чужих культур. Фан Фан является голосом Уханя, говорит нам профессор Берри, и для него это вполне естественная перспектива. Именно писательница, создавшая роман «Похороны налегке», в котором рассказывается о семье землевладельцев, сводящих счеты с жизнью во время аграрных реформ пятидесятых годов, чтобы избежать унизительных маоистских ритуалов, должна говорить от имени тех, кто лишен слова. Но если выйти за рамки художественных условностей, насколько типичен этот взгляд? Представляет ли «голос» Фан Фан жителей Уханя с их собственной точки зрения? Здесь можно было бы противопоставить «свидетеля Ницше» и «свидетеля Монтеня». Ницше сожалел о том, что рядом с Иисусом (которого он считал исторической фигурой) не «жил какой-нибудь Достоевский», который смог бы описать его как психологический «тип décadence», по аналогии с князем Мышкиным. Ницше не удовлетворяла топорная, как ему казалось, работа евангелистов, хотя он понимал, что в этом его вкус расходится с европейской традицией. Монтень же, размышляя о ритуалах бразильских каннибалов в одном из самых знаменитых эссе, выводит на сцену своего нормандского слугу, человека «простого и темного». Надежный свидетель, говорит он, человек либо «исключительно добросовестный, либо настолько простой, чтобы его умение сочинять небылицы и придавать вид достоверности выдумкам превосходило его способности». Фан Фан — определенно свидетель уханьского карантина в смысле Ницше, а не в смысле Монтеня: скорее изощренный и наблюдательный, чем простодушный. Что касается «добросовестности», то о ней мы судить не можем.
О том, что свидетельница эта далеко не проста, говорит и последняя треть дневника, в которой резко меняются тональность и стиль повествования. Эпидемия идет на спад, с начала марта записи становятся более литературными. Появляется письмо о беспокойной маоистской юности Фан Фан, адресованное возмущенным пионерам. Партия, напоминает им она, это и есть народ, а правительство — всего лишь его слуги.
Какой урок можно извлечь из этой истории, ведь идея срочного перевода явно предполагала некую доступную западным читателям мораль? Профессор Берри в послесловии делает неожиданный для самого себя вывод: китайская эпидемия стала чем-то вроде архетипического сюжета, по которому развивались события в других странах. «Уханьский дневник», отмечает он, стал своего рода сборником «писем из будущего». Где в таком случае наша Фан Фан, риторически вопрошает он, и почему американские власти не реагировали на сигналы из Китая? В начале марта на приеме у своего врача в Лос-Анджелесе он рассказывает о целых китайских семьях, унесенных новой болезнью. На что врач всего лишь пожимает плечами: «Разве это не новый грипп?»
Фуко когда-то писал о новой эмансипации: в определенный момент то, что воспринималось как должное, становится невыносимым. Карантинный нарратив скорее совпадает с обратным процессом: то, что еще вчера было невообразимым, становится обыденным, пресловутой новой нормальностью. История не только не заканчивается, но и может двигаться вспять. Не только в отдельных аномальных зонах, но и в глобальном масштабе. Сегодня мы знаем, что китайские власти, пропустив первый удар, в общем-то неплохо справились с ситуацией при минимуме исходной информации. В этом еще один урок эпидемии: она не просто распространяется в глобальном масштабе, но и дает редкую возможность сравнить различные системы управления in vivo, тогда как обычно подобные сравнения производятся в области коллективного воображения. Как если бы Чернобыльская катастрофа одновременно произошла в СССР, Франции, Японии, ФРГ и США, и мы смогли увидеть реакцию на нее правительств разных стран. Приходится констатировать, что сравнение западных демократий в стадии неолиберализма с «азиатскими тиграми», во многом развивавшими советские методики борьбы с эпидемиями, оказывается явно не в пользу первых.
Скорее всего, столь оперативная публикация английского перевода «Уханьского дневника» предполагала, что он станет свидетельством диссидента о некомпетентности авторитарного режима, который не заботится о гражданах, скрывает информацию и использует карантин для усиления контроля. Но в итоге она стала крайне своеобразным гимном глобализации. Если бы «Уханьский дневник» был популярным сериалом, для его адаптации на Западе не потребовалось бы сверхусилий, разве что апокалиптические сцены с переполненными моргами и стариками, брошенными в домах престарелых, можно было бы снять с голливудским размахом.
Мир действительно стал глобальным, и новый порядок грозит разрушить старые империи. Но это предсказание в духе дельфийской пифии: какая именно империя будет разрушена, мы пока не знаем. Божества истории никогда не отказывали себе в удовольствии посмеяться над человеческой гордыней. Между глобальным Западом и Китаем, конечно же, есть различия, но они явно не там, где их искали. Фан Фан в своем предисловии пишет о «высокомерии Запада», который не пожелал извлечь уроки из уханьской трагедии. Для наглядности «Уханьский дневник» можно было бы проиллюстрировать вырезками из западной прессы в стиле романов Кортасара или Перека. Пока Китай боролся с эпидемией, журналисты и эксперты убаюкивали публику проверенными расистскими стереотипами и антикоммунистическими штампами: у нас такого никогда не будет, мы не едим летучих мышей, моем руки, наши врачи компетентны, а больницы оборудованы по последнему слову, этот Китай только выглядит развитой страной. Эпидемия — это то, что происходит с Другими. И, конечно же, население не примет карантина, мы не будем следить за ним с дронов и загонять в дома полицейскими дубинками, «цифровой тоталитаризм» не наш метод. В начале марта «письма из будущего» писали уже итальянцы французам. Французы отвечали хоровым пением Марсельезы и панегириками великой медицине, созданной Пастером и Клодом Бернаром. Sic transit...
Мы упоминали два типа свидетелей, но в этом мире есть и два типа часовых. Те, кто вовремя поднимает тревогу, и те, кто спит и видит сны. Значительная часть западных экспертов и свободной прессы не смогли вовремя пробудиться от своих нарциссических снов. Но это, конечно же, не повод призывать к поискам виновных и тем более к расправе, мы же не варвары. В Китае народ — это партия, напоминает нам Фан Фан. Смелость говорить правду как будто означает бросать вызов партийной власти. Но в странах свободного Запада власть — это народ. В таком случае говорить правду власти означает быть честным с самим собой. А для этого требуется куда больше смелости.